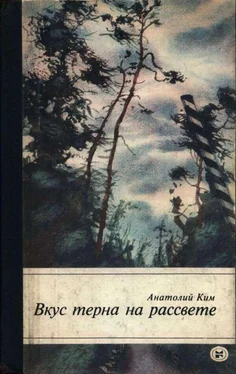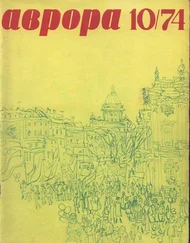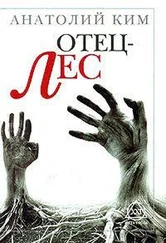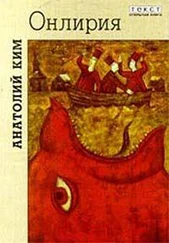Приехал домой, отдал матери деньги, погулял недельки две, сходил в лес за грибами и принес корзину тугих боровичков. Затем, помаявшись еще немного, однажды потихоньку уехал из деревни.
Он добрался до Москвы, где надо было делать пересадку, проехал в метро к Киевскому вокзалу, занял очередь в билетную кассу. И все это опять же как во сне. Приблизившись к окошечку кассы, он вдруг растерянно уставился в пустоту: оказалось, что не помнит, как называется та станция… Кассирша раздраженно закричала на него, хлопнула ладонью по столику, очередь зашумела, его оттеснили в сторону. Он часа два бродил по огромному, глухо рокотавшему народом Киевскому вокзалу. Взял в буфете котлет, мутного кофе и поел. Затем вновь пошел к кассе и купил билет до Калуги.
Добравшись до Калуги, он тут же поехал назад, выходил на каждой станции, напоминавшей ему ту, которую он искал. Так он вновь добрался до Москвы, поспал на вокзале, а утром опять отправился к Калуге. Провалы памяти — странный недуг, следствие жестокого детского испуга, — теперь настигали его то и дело. И порою, очнувшись, он не мог себе сказать, где он, как оказался здесь — в полутемном помещении с затоптанным полом, где стоит металлический столик, а за столиком два человека в замасленных телогрейках пьют пиво, подмешивая туда сгущенных сливок из проткнутой консервной банки… Однажды, сидя у вагонного окна, он вдруг увидел на здании надпись: «Чернигов». Значит, добрался каким-то образом до Чернигова. Деньги у него кончились — или потерял их, и он зарабатывал на выгрузке вагонов, прибившись к случайной артели студентов. Разгружал из полувагонов лес-кругляк, тес, а из вагонов-холодильников виноград и арбузы.
К октябрю он вернулся домой. Мать плакала, расспрашивала его, что с ним, где был, — сын молчал. Эти два месяца, которые он провел в отчаянии и глухом одиночестве средь множества людей, совершенно изменили его. Перед матерью сидел на табурете почти незнакомый, худой человек в новой зеленой куртке, с поникшей головою, с неуверенно уходящими в сторону глазами. Мать, топчась у печки и глядя на него, завыла, словно по покойнику. Но все обошлось — он отлежался дома, вновь пополнел, а после Октябрьских праздников его, пьяного, под гармошку проводили в армию. Это произошло далекой осенью пятьдесят третьего года. После армии он женился, снова отходничал, и тут-то мы встретились с ним в одном совхозе. Он перекладывал в Доме приезжих печь, работал не спеша, спокойно потягивая прилипшую к губе папироску, то и дело прося поднести огоньку, ибо у самого руки были в сырой глине. Передо мной был человек, зрелость которого не могла вызвать сомнения, подтвержденная к тому же столь серьезными фактами биографии, как служение в армии, женитьба, рождение детей, — это был много повидавший, бывалый мужик с красным добродушным лицом, мягким взором синих глаз, разговорчивый. Когда он улыбался, щеки вспухали энергическими буграми, на них мелькали и таяли круглые ямки.
— Можно сказать, мне крупно не повезло, — говорил он, — что отшибло память и я забыл, как называлась станция. Еще бы мог тогда, как вернулся домой, узнать у Ларионыча, да он снова был в отходе, до Михайлова дня бесполезно было ждать его, а тут и в армию меня забрали. И потом, куда бы я ни ездил, как только увижу ремонтниц на железной дороге, так у меня на сердце и подкатит…
Они живут в вагончиках ремонтных поездов где-нибудь на окраине станции, среди запасных путей и тупиков. Временные лесенки с деревянными ступенями приставлены к раздвинутым дверям вагонов. Прямоугольные отверстия высоких окон завешены белыми занавесками. Работают эти женщины и девушки целый день на воздухе, и можно увидеть из пролетающего мимо, грохочущего поезда, как они пережидают, глядя из-под надвинутых на самые глаза косынок в вагонные окна. Некоторые из них стоят под солнцем и знойным ветром полуобнаженные, опираясь смуглыми руками на лопаты. Вылинявшие майки, выгоревшие добела полоски лифчиков… о, куда же делась та матросская тельняшка, пахнущая солнцем, сухим сеном и теплой девичьей кожей! Мы могли бы жить в одном из этих вагончиков с белыми занавесками на окнах. Вечером, после работы, умывшись и переодевшись в чистое, ходили бы в местный клуб смотреть кино. И там, в темноте, сидели бы рядом, тесно прижавшись друг к другу, держась за руки.
Вместо этого — командировочное безвременье, жуть на душе и мрачное предчувствие, что уже никогда не выбраться из этого захолустья. И я уже не жду чуда — я жду Прохорова с трубами. И названия станции мне не вспомнить, не узнать, потому что война-то была, и выстрел в мальчика был, и пока Володя служил в армии, умер старый Ларионыч. Но главное — уже незачем вспоминать забытую станцию.
Читать дальше