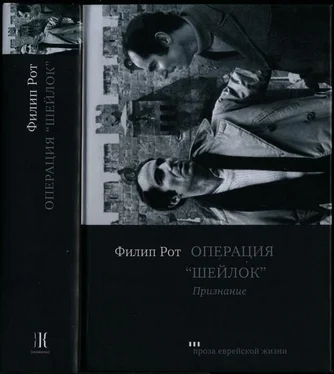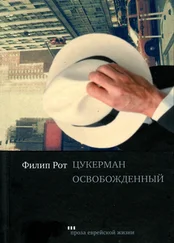Вот что я думал, когда не думал что-то полярно противоположное, либо когда не думал обо всем остальном.
Ну а о том, что думал обвиняемый, пока Розенберг объяснял суду, почему воспоминания о Треблинке ошибочны, лучше всех знал сидевший за столом защиты адвокат-израильтянин Шефтель, которому Демьянюк передавал записку за запиской все то время, пока Чумак допрашивал Розенберга, — записки, которые ответчик, по моим предположениям, писал на своем кривом английском языке. Демьянюк лихорадочно писал, но после того, как он передавал каждую записку через плечо Шефтелю, тот, как мне казалось, лишь просматривал их по диагонали, а потом присоединял к россыпи других записок на столе [68]. В общине американцев украинского происхождения, думал я, эти заметки, если их когда-либо соберут вместе и опубликуют, окажут на земляков Демьянюка примерно такое же воздействие, как знаменитые письма из тюрьмы, написанные Сакко и Ванцетти на иммигрантском наречии. Или такое же воздействие на совесть цивилизованного мира, какое Суппосник без должных на то оснований ожидает от путевых дневников Клингхоффера, буде они когда-нибудь удостоятся моего предисловия.
Все это, написанное дилетантами, подумал я, все эти дневники, воспоминания и записки — такие неуклюжие, неумелые, использующие тысячную долю ресурсов письменного языка, но свидетельство, которое в них содержится, все равно не теряет в убедительности, а, наоборот, обжигает гораздо сильнее именно потому, что автором применены самые примитивные, самые незамысловатые выразительные средства.
Теперь Чумак спрашивал Розенберга:
— Как в таком случае вы вообще можете приходить в суд и указывать на этого господина пальцем, если в тысяча девятьсот сорок пятом году вы написали, что Иван был убит Густавом?
— Господин Чумак, — тут же ответил свидетель, — разве я сказал, что видел, как он его убил?
— Не отвечайте вопросом на вопрос, — предостерег Розенберга судья Левин.
— Он не восстал из мертвых, господин Розенберг, — продолжал Чумак.
— Я этого не говорил. Я этого не говорил. Я лично не говорил, что видел, как его убили, — сказал Розенберг. — Правда, господин Чумак, я хотел бы это видеть — но не видел, не видел этого. Это было мое самое заветное желание. Я в рай попал, когда услышал — мне не только Густав говорил, другие тоже — так мне хотелось, так хотелось верить, господин Чумак. Хотелось верить, что этого зверя больше нет. Что он больше не живет на свете. Но, к сожалению, к моей глубокой печали, мне бы хотелось увидеть, как его рвут на куски, совсем как он рвал на куски наших. И я всем сердцем верил, что его ликвидировали. Вы можете меня понять, господин Чумак? Это было их самое заветное желание. У нас была мечта — прикончить его, и остальных тоже. Но он сумел вырваться, удрать, выжить — вот ведь повезло!
— Господин свидетель, вы написали, своим почерком, на идише — не на немецком, не на польском, не на английском, но на вашем родном языке, — вы написали, что Густав ударил его по голове лопатой и он остался лежать там насовсем. Вы это написали. И вы сказали нам, что написали правду, когда в тысяча девятьсот сорок пятом году сделали эти заявления. Вы говорите, что ваши воспоминания — неправда?
— Нет, это правда, тут вся правда написана, — но то, что рассказали нам ребята, не было правдой. Они хотели похвастаться. Они так выражали свою мечту. Они этого жаждали, убить его было их самым заветным желанием — но они его не убили.
— Почему в таком случае вы не написали, — спросил его Чумак, — что, мол, самое заветное желание ребят состояло в том, чтобы убить этого человека, а потом, в лесу, я слышал, что его убили таким-то способом… или другим способом. Почему вы не написали про все это, про все версии?
— Я предпочел написать эту конкретную версию, — ответил Розенберг.
— Кто был рядом с вами, когда родилась эта версия — о том, что ребята хотели его убить, что каждый хотел быть героем и убить этого мерзавца?
— В лесу, когда они это рассказывали, было много народу, мы несколько часов посидели, а потом разошлись кто куда. Они сидели там, господин адвокат, и каждый рассказывал свою версию, и я поверил. Вот это я и помню: я в это поверил, и мне очень хотелось твердо верить, что так было на самом деле. Но этого не случилось.
Посмотрев на Демьянюка, я увидел, что он улыбается непосредственно мне — не мне, конечно, а своему сыну, сидящему передо мной. Демьянюка забавляла нелепость показаний, крайне забавляла, и в его глазах даже мелькнуло торжество, словно утверждение Розенберга, что в 1945 году он достоверно изложил то, что его источники сами изложили недостоверно, а он им поверил, — уже достаточное оправдание и он, считай, на свободе. Неужели он настолько туп, чтобы на это надеяться? Почему же он улыбается? Чтобы укрепить дух своего сына и своих сторонников? Чтобы прилюдно выказать презрение? Улыбка была странная, озадачивающая, а для Розенберга, как мог заметить всякий, — такая же неприятная, как попытка дружеского рукопожатия и теплое «Шалом», которое адресовал ему Демьянюк годом раньше. Будь ненависть Розенберга бензином, а у свидетельской трибуны кто-то чиркнул бы спичкой, пламя охватило бы весь зал суда. Пальцы Розенберга, эти пальцы докера, стиснули кафедру, он сжал зубы, словно подавляя рев.
Читать дальше