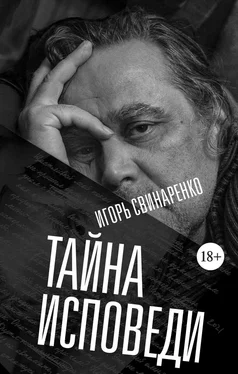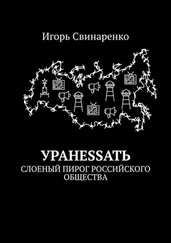— Ну шо? — спрашивали их бабы.
— Да вот, — говорит немец, — видишь, сапог порезан, нога в гипсе.
— А як Ганс?
— Та убили его.
— А отой, Фриц?
— В плен попал…
Как-то они объяснялись, наши бабы с немцами.
А еще ж были у них союзники — итальянцы. Их тоже помню. Такие убогие, зачуханные, обшмарканные, в обшморганной одежде… Мы видели, что они — люди безобидные, подневольные. И голодные! Немцы — так те обжирались, а итальянцев похуже кормили, они даже ходили по домам побираться. Бывало, в дверь тук-тук, бабка открывает, а там — итальянец, жалкий такой: «Матка!» И руку протягивает. Там наши давали им хлеба! А если немец, постоялец, открывал дверь — так итальянец сразу убегал, бежал, аж спотыкался — а то ж морду набьют.
Значит, немцы два года тут стояли. И было тихо… А в 1943-м, в сентябре, началось. Самолеты налетали, бомбежки, не поймешь, шо к чему. Стреляют из-за углов… Наши, значит, наступают. А немцы отходят — и отстреливаются. Мы прятались.
Такой случай был. Немцы ушли от нас. В город Сталiно, это сейчас Донецк. Пол-Донецка наши взяли, а вторая половина — у фашистов. И вот моя мать сидит с соседками на улице, и мы где-то там крутимся. Вдруг видим — летит фокке-вульф, самолет разведчик такой, рама, два фюзеляжа, — ты такие видел в кино. На низкой высоте шел самолет, изучал обстановку. И какой-то мудак, наш пехотинец, — ба-бах по нему из винтовки! Раз, другой, третий. Немец развернулся — и ушел. И тут наш капитан, он с бабами что-то обсуждал, говорит: «Так, народ, прячьтесь! Сейчас будет не дай Бог что: налет скоро начнется». А еще до прихода немцев нас всех заставили убежища сделать во дворах, яму вырыть и перекрыть ее бревнами. Ну вроде что — бревна? Но они всё ж лучше, чем ничего. Мы все быстро попрятались там, в этих ямах, каждый у себя во дворе.
Кто спрятался, а кто и побежал! Потому что какой-то мудак заорал: «Немцы наступают!» И обозники наши, они там рядом стояли, запаниковали. Бежать! Лошадей погоняют, а те медленно идут, они ж в наступлении жирные (а в отступлении — кожа да кости, я помню, видел в 1941-м).
И вот прошло минут десять — и как налетела штурмовая авиация! Немецкая! Страшное дело… Когда всё кончилось, мы вылезли, смотрим — а вся улица завалена убитыми обозниками и дохлыми конями, и обломками телег. Разгромили немцы весь этот обоз. Потом, когда всё утихло, тех, кто бежал от немцев, — везли на телегах, на тачках. Трупы. Какой и без головы… Лошади убитые — я ж говорю, такие упитанные, жирные… Кой-какие мужики у нас во дворах оставались, так они пошли с топорами, с ножами, накинулись на туши лошадиные — и после тащили домой мешки с кониной. И нам что-то досталось. А у нас оставалась кукуруза. Так мы наварили той кукурузы с кониной, о-о-о! Неделю обжирались! Я тогда впервые ее попробовал, конину, так она ж вкусная, а с кукурузой — и вовсе деликатес! Кукуруза — это был у нас тогда основной продукт питания. Потом, в Сочи, когда на пляже продавали вареную кукурузу, все на нее кидались. А мне она неинтересна, ребята, я ее нажрался с 1941 по 1947 год, в голодовку!
В 1947-м только отменили карточки на хлеб. И стали его без карточек продавать — хоть две, хоть три буханки бери. Так я в первый день, как карточки отменили — простоял в очереди полдня. Взял три буханки, ну кирпичики, под мышки, штаны подтянул — а то ж чуть с меня их не содрали в очереди, такая давка была! И пока шел до дома, а это полкилометра, так сожрал целую буханку. Не дай Бог опять такое…
Преставиться отец успел до начала войны в Донбассе, так что похоронили его по-людски, как положено — даже с поминками в кафе. А не как некоторых после, когда Гиркин пришел и начались артобстрелы… Опять — артобстрелы.
Мой отец на войне. Пацаном. Я часто думал про это в нежном возрасте и после. Вот ребенок голодный. И грязный. Не знает, чем кончится война — и кончится ли вообще когда-нибудь. Где Сталин, Ленин, красные знамена и непобедимая Красная Армия? Всё рухнуло, как и не было ничего. Обман, значит, был кругом! Теперь главные — немцы. А наши при них — какие-то жалкие попрошайки, так? Которых терпят из жалости. Со всей положенной брезгливостью. Отец этого ребенка — на фронте. А там же людей убивают! Если б был жив, то пришел бы и вступился за своих. Да хоть накормил бы. О, сколько я от своих слышал рассказов про возвращение деда! Куда там Одиссею.
Путь в Макеевку был тоже окольный, как на Итаку. После всех своих скитаний дед, наконец, выписался из последнего госпиталя — и поехал. Не домой, хотя немцев из города к тому времени давно уже выбили — а почему-то на Урал. Дед что-то объяснял про документы, вот откуда он призвался, значит, туда вроде и положено вернуться, ну хоть заехать и выправить бумаги… Но после до самой смерти бабка ему при случае, когда они орали и ругались, всё ему припоминала:
Читать дальше