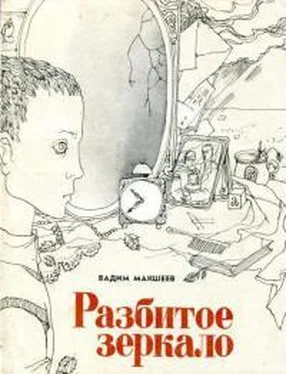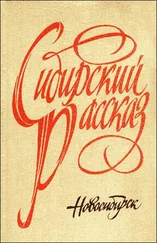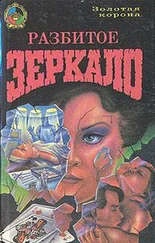Однажды ветреным днем мы с мамой вышли из дому, я думал — идем к отцу, но она привела меня в рябой от осыпающейся штукатурки дом за Ангельским мостом, где помещалось какое-то благотворительное общество. В сумеречной комнате из-под тернового венца мученически смотрели глаза Христа, под распятием вышитое колючими буквами на полоске холста висело изречение из Евангелия, все было давним, запущенным — мрачная мебель, куча тряпья в углу, и на обоях нельзя было отличить рисунок от пятен сырости. Возле узкого, словно запрятанного в толстую стену, окна коротко остриженная дама что-то кроила ножницами, другая, помоложе, с постным лицом, разговаривала по-немецки с горбатой старушкой. Старуха что-то рассказывала, и голова ее в плисовом капоре тряслась от старости и обиды. Ей подали сверток, сунув его в кошелку, она пошаркала к выходу, а мама, дождавшись своей очереди, стала, краснея, объяснять что-то по-немецки. Подымая строгие брови, дама долго расспрашивала, затем сказала что-то остриженной, и та, благостно поджав увядшие губы, подала нам детское пальто.
Поношенное, но еще целое, оно было велико, и, когда мама его на меня надела, мои пальцы чуть высовывались из свисших рукавов.
— Поблагодари баронессу, — шепнула мама. Она волновалась и никак не могла застегнуть крючок на моем воротнике.
— Спасибо, — сказал я, ощущая непривычную тяжесть пальто.
— Надо говорить «данке», — произнесла баронесса на ломаном русском языке и холодными пальцами подняла мой подбородок. — Муттер должен тебя учить. Кароший мальчик должен делать нога о нога. Ферштет?
Она еще что-то жестко выговорила маме, и я видел, как у той дрогнули губы.
— Не хочу больше в эту лавку, — сказал я, когда мы вышли на обледеневший тротуар.
После сумеречной комнаты на улице дышалось легко, все было ярким, по-зимнему светлым.
— Это не лавка, это… такой дом, где помогают людям. — Мама еще не могла успокоиться, она всегда мучительно страдала от унижения.
— А почему ты говорила не по-русски? — спросил я. Длинные полы мешали мне идти, и от пальто противно пахло той комнатой. — Мы же русские.
— Конечно, русские.
— И я в России родился, да?
Мне сейчас очень хотелось, чтобы она сказала об этом, хотя я хорошо знал, где родился.
Она крепче стиснула мою руку, будто благодарно пожала за что-то, а, может, просто, чтобы я не поскользнулся.
— Ты же знаешь, где родился — в Ленинграде, — сказала она. — Мы там жили у дедушки, а потом я привезла тебя к папе. Завернула в полотенце и привезла.
— Зачем в полотенце?
— Боже мой… Одеяльца не было. Крестная дала полотенце, и я тебя завернула, ты был совсем крохотный… Боялась, что на границе с тобой не пропустят, а пограничник оказался славный, еще тебя на руках подержал. Тепло тебе?
— Тепло… — Я поскользнулся и крепче ухватился за мамину руку. — А почему ты боялась?
— Я тебе уже рассказывала. Когда уезжала к дедушке, то еще только ждала, что ты родишься. Потом ты появился на свет, и понадобились метрики. А папа твой тут оставался. Ну, мы пошли с дядей Володей, папиным братом, он сказал, будто он твой отец. Потом поехали сюда, в Эстонию, и все думала, что на границе станут спрашивать, зачем я тебя увожу от отца. А папа-то твой тут остался. За границей. Понял?
— Почему же папа к дедушке не поехал?
— Я тебе объясняла, — досадливо сказала мама. — Потому что там большевики.
— А дедушка их не боится?
— Нет…
— Большевики — не русские?
— Ну что ты пристал ко мне! — воскликнула она.
По заснеженной дорожке перед памятником Барклаю озабоченно сновали озябшие голуби. Где-то размеренно ударял колокол, и печальный звон плыл в морозном воздухе. Мама вздохнула:
— Большевики — тоже русские.
— А пограничник был русский? — допытывался я.
— Советский… Господи, перестань меня мучить сегодня!
Скрипел снег под мамиными ботиками. Сизый голубь нехотя взлетел из-под ног и опустился у пьедестала, с которого чугунный фельдмаршал печально и строго смотрел на эстонскую зиму.
— Перестань меня мучить, — повторила мама устало. — Вырастешь, все поймешь.
Стеклянно-звонкое, с запахом хвои и оплывающих свечей, с глянцевыми ангелочками, блестящими нитями золотого дождя и хлопьями ваты в витринах лавок пришло Рождество. Наверное, оно напоминало маме о России, детстве, обо всем, что ушло из ее жизни. Оставалась последняя соломинка, за которую надо было из всех сил держаться, — семья. В ней были и любовь, и вера, и спасение. Мир вокруг был жестоким, и бывшее прежде, казалось, происходило в чьей-то другой, а не в ее жизни. И сегодня, когда я уже старше мамы, все, что было тогда со мной, порой мнится не моим, а чьим-то чужим детством. Что остается во взрослом от ребенка, что остается от него в постаревшем, много пережившем, по-иному понимающем и ценящем мир? Ты теперь другой, и все, что было тогда, принадлежит мальчишке, которого нет, оно его и осталось с ним где-то на сбежавшихся вдали рельсах, на далеких плесах, куда нет возврата… Но вдруг это прошлое отзовется в тебе то умилением, то болью, ты плачешь порой во сне и, пробудившись, не помнишь, о чем были твои слезы…
Читать дальше