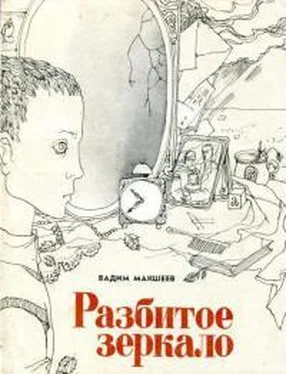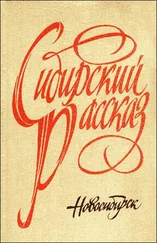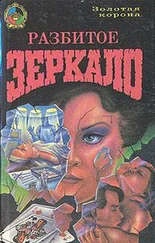Теперь по субботам я приезжал к родителям, ночевал две ночи дома, а в понедельник рано вставал и утренним поездом возвращался в Нарву. Как-то раз, проспав, прибежал на вокзал, когда железнодорожный состав уже тронулся, на ходу вскочил в тамбур, но оказалось, что это не тот пассажирский поезд, в котором я обычно ездил, а воинский состав с моряками.
— Садись, — кивнул мне рябоватый морячок, когда я, растерянный, остановился в проходе.
Место рядом с ним было свободно, на соседних полках, укрывшись бушлатами, спали матросы.
Я присел и сдернул с головы фуражку с желтым околышем. Мама купила ее мне, когда я поступал в реальное училище, теперь форму отменили, и учился я уже в другой школе, но в форменной фуражке чувствовал себя как-то побравей.
— Далеко поехал? — спросил морячок.
— В Нарву.
Мне еще не приходилось разговаривать ни с кем из Советской России, он был первым, этот балтийский матрос, из совсем другой жизни.
— На занятия. Я — русский, в русской школе учусь.
— Чую, братишка, чую.
Серые глаза его с попорченного оспой лица глядели приветливо.
Как хотелось мне что-нибудь ему сказать…
— Знаете, я в Ленинграде родился.
— Тогда вовсе земляк. — Матрос похлопал меня по плечу. — Часом не с Выборгской?
— Не знаю, — смутился я. — Меня совсем маленького увезли.
— У меня братан такой, как ты. В седьмом классе. На Васильевском острове. Слыхал про такой?
Промелькнула в утреннем тумане сложенная из камней мыза, промаячили крылья ветряной мельницы, гряда валунов, и снова побежал вдоль дороги подстриженный ельник. Покачивались висевшие под верхней полкой бескозырки, проплывала за мутным вагонным стеклом Эстония. Нагнувшись, сосед достал из-под сиденья гармонь, растянул меха. Трехрядка охнула и вздохнула долгим вздохом.
Раскинулось море широко,
И волны бушу-уют вдали-и, —
негромко спел морячок и, глядя в окно, задумался.
Он был для меня севастопольским матросом Кошкой, геройским моряком с «Варяга», балтийцем из Кронштадта, фильм о котором я смотрел недавно.
— Вас как зовут?
Оторвавшись от своих мыслей, он повернулся ко мне:
— Дмитрием.
— А меня Димой.
Полоски тельняшки в вырезе его широкого воротника рябели как морские волны.
— Школу кончу — пойду в военно-морское училище.
Он уже весело посмотрел на меня, развел гармонь, но не стал играть, а поставил возле моего ранца.
— А я в школе зоологию любил. Учительница хорошая, доходчиво рассказывала.
— А у нас по истории преподаватель хороший. — Я помолчал. — Вы куда едете?
— Да все по дороге.
— Товарищ, — сказал я. Хотелось назвать его Дмитрием, но я стеснялся. — Товарищ… Если можно, дайте мне, пожалуйста, красную звездочку.
Красноармейские звездочки носили теперь многие ребята.
— Флотскому по форме положено, а тебе зачем? — спросил он, посерьезнев.
Молчком снял с крючка висевшую бескозырку, отцепил крытую алой эмалью пятиконечную звездочку с серпом и молотом и протянул мне на широкой ладони:
— Ну, ладно, бери на память.
Неделю я носил ее на груди, а в субботу, сбежав с последнего урока, чтобы поспеть к поезду, которым уезжал домой, спрятал за лацканом курточки — не знал, как отнесется к звездочке отец — в гражданскую он воевал не за тех, у кого на буденновках пятиконечные звезды.
Дома меня встретили мама с сестренкой, отец еще не вернулся с завода. Наскоро поев, я оставил на вешалке курточку и пошел к железнодорожной насыпи, где вечерами мальчишки и девчонки с нашей улицы собирались на игру в лапту. Собирались, когда учились вместе в одной школе, продолжали приходить сюда и когда многие стали приезжать только на воскресенье. Разбившись на две партии, били с подачи по мячу, стремглав мчались вдоль насыпи к проведенной по земле заветной черте, руками и фуражками ловили высокие «свечки». И в тот вечер, как всегда, мазали и выручали, так же оглашали полянку хлесткие удары лапты, так же пахло увядшей полынью, просмоленными шпалами, и было счастливое чувство беззаботности, какое может быть только в детстве. Но вдруг я остро ощутил, что всего этого скоро не будет. Нет, я не знал, что недалеко время, когда здесь прокатится война и раскидает нас в разные стороны, не было предчувствия чего-то трагического, неотвратимого. Просто увидел, как выросли с прошлого лета Сашка, Мишка и Колька, какими длинноногими стали наши девчонки, и с грустью понял — что-то уходит от всех нас, кончается что-то хорошее, может быть, лучшее в нашей жизни. Далеко улетал уже плохо различимый в сумерках мячик, убегали к спасительной черте девчонки, вечер переходил в наполненную осенними запахами ночь, и, приближаясь откуда-то издалека, долго и тревожно кричал паровоз.
Читать дальше