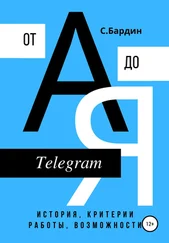— Коля, Коля. — Самсоныч озабочен. — По-моему, Шура замерзла.
Приходим, включаехм лампочку, жмуримся.
У порога пустое мусорное ведро и кучка обуви: туфельки, тапочки, сандалии, босоножки, маленькие и зашарпанные, — я поскорей отвернулся. В доме голым-голо, как перед вселением или перед отъездом. В доме — три комнаты, кухня. На середине большой комнаты стоит двухтумбовый стол, казенный, должно быть списанный, а вокруг него шесть стульев, все забрызганы чернилами. Справа, как заходишь, стоит железная кровать, пугающая сеткой, а матрас свернут в изголовье. Над кроватью висит крошечная репродукция из журнала: красный конь, на коне голый мальчишка. Помню, мой отец про эту картину говорил: конь хорош, красный, видный, а много не вспашет… Колька спросил, знаю ли я фамилию художника. Я назвал: Петров-Водкин. Колька усмехнулся, однако стоял перед картиной, глядя почтительно… В смежную комнату я просунул голову, отведя шторы: на полу спали дети, ближний у двери мальчонка, откинув край одеяла, замерз, обхватил плечи тонкими руками. Была еще комнатка, ее приспособили под кладовую: все навалом — три чемодана, сундучок, сбитый обручами, два узла с тряпьем, несколько мешков с картофелем, до сотни пустых бутылок, а в дальнем углу желтеет сено — маленький аккуратный стожок.
— Ай-яй-яй, беда, беда. — Самсоныч, как и я, поражен. — Убежал, подлец, и бросил лежачих. А она-то? Она по-русски, думаю, глаголы только знает и — все. Ай-яй-яй…
Торопливо, давясь, уминаем вареную картошку, холодную, скользящую в пальцах. Шура сидит в кухне, мы ее звали, звали… В кухне я зачерпнул воду, попробовал: теплая, пить не рискнул, а пошел на крыльцо, сел, и стало до того ли тошнехонько, и главное: Кольку во всем виню, зачем привел сюда? И еще ваньку валяет: «Милые мои, сегодня я люблю вас»; — плакать надо, ругаться, искать выход. А лучше бы я уехал, всего этого бы не видел, не переживал. Вышел из дома и Самсоныч, посидел рядышком, повздыхал, потом, будто что-то вспомнив, прошагал по двору и скрылся за калиткой. Минут через пять, позевывая, напуская на себя веселость, явился Колька, и я со злом его осадил:
— Комедию ломаешь. Стыдись. Плакать надо, ругаться!..
— Поплачь, поплачь, легче станет. — Колька садится поодаль. — Любишь себя, жале-ешь… Браток, браток, я сам еле сдерживаюсь. Она сейчас сказала на своего бандита: русский, а — нехороший. О! Будто мы поголовно суждены быть хорошими?! Я ее учу: жизнь замрет, если все станут поголовно хорошими. Не верит, совсем она неграмотная… Ну, дает! Если, значит, я русский…
— Зря ты ее сбиваешь с толку. Она права: чем больше хороших, тем меньше плохих. На этом уровне и надо говорить.
— Поверь, я даже согласен с нею жить. Ну, я ей говорю: возьму вас под опеку, год с вами проживу… Касаться, мол, тебя не буду, а только одевать и кормить… Она как засмеялась, как чокнутая… Браток, ну я чем богат? Разве что страданием! Говорю: Шура, не жалей о козе, я корову куплю. Да! И я купил бы дойную корову. Я когда-то умел косить. А доить и Самсоныч умеет, и Сафроныч, и Марта Гавриловна. Х-ха! Браток, при умном распределении, согласись, молоко всем достанется.
— Колька, а вот кто ее в Намангане ждет с таким выводком?..
— Так и я говорю. А она: поедем, поедем, там хорошо…
Я слушаю Кольку и думаю: Шуру ли жалеть, Кольку ли жалеть? И кто из них, двоих, большей жалости просит?.. А ведь они просят, хотя делают это не вслух.
С улицы, озираясь, возвращается Самсоныч, с букетом. Гляжу на букет удивленно: да, тот самый, еще и с комочками глины.
— Коля, Коля. — Самсоныч торжественно выпрямляется. — Уверен, Шуре никогда не дарили цветов. Держи! Ты будешь первый с цветами.
— Вы с ума сошли, — говорю, — это же подсмешка. — Вы что?
— Браток прав. Да, Самсоныч, поднеси-ка цветы бабке Марте.
Долго мы распределялись спать. Никто не хотел наглеть, и двухспальная кровать осталась со свернутым матрасом. Самсоныч устроился на раскладушке, ее поставили в кухне, там теплее. Я попросился на пол к ребятишкам. Колька и Шура выключили лампочку, поставили на стол свечку, и сидели возле нее, и шептались.
* * *
Что на полу жестко, если даже подстилка из сена, это не беда, а беда — холодно. И еще — шепот. Если он разборчив, я ни за что не усну, слушаю, такая моя природа. Неразборчивый шепот, я проверил: раздражает, но и действует убаюкивающе. Я приполз к шторкам, выглянул и признался Кольке, что все слышу. Они враз замолкли. И я, наверное, мигом же уснул, оботкнув себя плащом, как на учениях когда-то шинелишкой.
Читать дальше