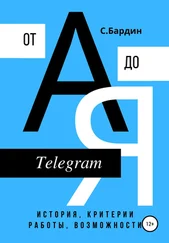Просыпаюсь — плащ с меня стягивают, причем тянут рывками, как бы раздраженно… За окнами еще темень. Свечка до половины истаяла, язычок огня кажется мне похожим на золотую чайную ложечку. А стягивает плащ крайний мальчишка и делает это бессознательно, с полным правом: замерз. Я потрогал его ледяные плечики и ужаснулся: что же ты, мачеха, ребятишкам на полу стелешь?.. И другой, и третий мальчишки сложились в комочки, я такие видел на картинке, показывающей беременную женщину как бы в разрезе. В комнате все еще тихо шептались. Я притянул младшего из детей, сунул под мышки и пригрел. Зло меня берет, и теснее прижимаю пацаненка, будто и свою и чужую вину, жалкую и ощутимую. Злюсь и на Кольку: где чувство реальности, рыжий? Скорее всего ты хочешь в будущем спать спокойно, мол, я предлагал опеку — она отказалась, но я же предлагал?..
— Кол-ля, не надо, — не шепчет, а уже говорит в полный голос женщина. — Мы сами, Кол-ля… Ты сам, а мы сами…
— Сами-и! — Колька почти вскрикивает. — Вы не будете сами. Я! Я всегда был и буду сам. Сам, как ответчик. — И совсем тихо Колька выдыхает: — Тяжело плечам, Шура… Плечи давят на душу, знай. Я тебя никогда не забуду… Ты нас прости, мы не злые…
Я поднимаю от подушки голову: глухой стук слышится, и шорох, и тишина, а следом, как из бездонной глубины, едва слышимые, но все выше и круче забирая, доносятся ко мне, стягивая кожу на затылке, рвущиеся, невыносимо стыдные для слуха, позорные звуки мужского рыдания. Колька, Колька… Перед женщиной? У нее у самой дополна горьких слез, но она-то сдерживается. А ты? Трезвые и осмысленные слезы мужика, что есть страшнее?.. Я решительно выбираюсь из-под плаща и, лежа на животе, просовываюсь в дверной проем: Колька Медный, тускло освещенный свечкою, стоит на коленях, головой уткнулся в черный и тугой подол и сотрясает худыми плечами под клетчатой рубашкой.
— Кол-ля… Благородие моё, Кол-ля… — Женщина плачуще и нежно выпевает его имя, одна ее рука запущена в огненную гриву на затылке, а другая рука приглаживает и приглаживает рубаху на выпяченных лопатках. — Ты благородие… Хороший Кол-ля… — и она гладит его, гладит, и приговаривает, и глаза ее, сухие, устремлены в сторону истаивающей свечки.
Перед утром Колька, пасмурный, с мрачным лицом, расталкивает меня. Светлеет. Через окно мне видна верхушка телеграфного столба, две белые чашечки, косые нити проводов. Очень низкая и тревожная облачность. Колька объясняет, что лучше уйти сейчас, пока не проснулись дети, да и на улице еще нет людей. Мы не смотрим друг на друга, Самсоныч сидит, уже одетый, весь скорбный, и отечный, нос почти нападает на верхнюю губу. Вдавившись в полосатый матрас и поджав ноги в шерстяных черных носках, спит на левом боку Шура, сдвоив ладошки под щекой, и черные тени под глазами кажутся мне специально наведенными, а губы полуоткрытые, будто немедленно готовые или горестно сомкнуться, или улыбнуться, смотря что ей прикажут, и то если прикажет сильный человек. Колька с полминуты стоит над ней, свесив руки, и, круто повернувшись, выходит в дверь.
Проводили Самсоныча до подъезда, он зашел, не простившись даже, хмурый, недовольный. Направились с Колькой в музыкальную школу, цела ли она, не сгорела ли, покуда сторож шастал по окраинам города? Издалека разглядев за спящими еще домами, красную железную крышу и угол побеленной стены, Колька равнодушно кивает: цела. И тащит меня на вокзал. Я, рискуя обидеть Кольку, говорю:
— Ты заметил: сама на кровати спит, а дети — на полу.
— Молчи, браток, — и никому не рассказывай, — отвечает он. — Страшно подумать: дети болеют нервами. Я хотел перетащить их на койку. Шура не дала, они на койке пугаются, кричат во сне: им кажется, что под койкой родная мать… Ты понял смысл? Гад пьяный, он ее под койку… А они? Что мы делаем, что делаем…
Колька оглядывает каменную улицу, холодную с утра, притаившуюся. Клочки тумана невесомо тычутся в цоколи домов, окутывают подножия берез в сквере, и кажется, что березы просто парят в воздухе, не достигнув полуметра до земли. Обгоняя нас, тащится на вокзал утренний автобус, почти пустой. На высоком сиденье сонно покачивается молодая плечистая кондукторша, скуластая, узкоглазая, в голубой вязаной шапочке. Лениво оглядывая нас, кондукторша грозит пальцем и зевает в кулак. Колька толкает меня локтем, говорит:
— Это и есть Маринка, подруга Люсина… Ничего, — Колька вздыхает. — Ничего, мы с Люсей пробьемся куда хотим, если, конечно, перед нами расступятся. Правду говоря, Люся пообещала отправить Шуру и детей, без хлопот, без билетов. Ничего, Люся женщина мировая. Я давно ее люблю, браток, и она чувствует. Но вспомни ее лицо. Вспомнил? А теперь сравни ее лицо и мою рожу.
Читать дальше