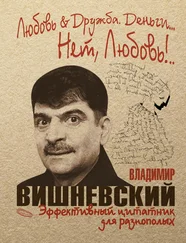Ниночка открыла глаза. Вставать, идти куда-то не хотелось. Маня угадала ее мысли:
— Так бы и лежала целый день, никуда бы не ушла отсюда.
— Тетя Маня, а за что вы работу любили?
Маня ответила сразу и просто, хотя вопрос, как представлялось Ниночке, был непростым.
— А я, дочка, задорная была. А задорным-то на месте не сидится. Мне бы все передом, передом…
И опять раскололась над ними синь от чуждого ей неуклюжего и громоздкого звука. В немыслимой высоте возникла светящаяся на солнце точка и вскоре скрылась, затерялась в громадных просторах неба.
— Пойдем-ка, дочка, домой, пора, — поднялась на ноги Маня.
Они вышли на дорогу, разъезженную, избитую, изрытую колесами и гусеницами, потом свернули на полузаросший травой проселок. Впереди и немного внизу, пригретая полуденным солнцем, дремала среди блекло-желтых полей деревенька Иванцево…
Отец вызвался немедленно разобрать и почистить грибы, а Ниночку отправил отдохнуть. Она прилегла в горнице на диване и вскоре уснула.
Снились ей грибы. Она собирала их и никак не могла наполнить корзину, а когда огляделась кругом, увидела, что она одна среди густого леса. Деревья словно бы сдвинулись, сомкнулись стволами и кронами, заслонив от нее спасительный свет солнца. Ниночка попробовала бежать — ноги подкашивались, не слушались ее. «Тетя Маня! Тетя Маня!» — звала она, однако и голос не подчинялся ей, звучал слабо, словно бы в вату уходил. Сзади кто-то настигал ее и вот-вот должен был схватить. В ужасе Ниночка пала на землю, стараясь вжаться в нее, закрыться руками…
Ласковое прикосновение отвело беду. Над изголовьем склонялась Маня Пирогова.
— Я с тобой, дочка, я здесь, — говорила она, как мать говорила ей в детстве. — Давай-ка вставать, а то ночью спать не будешь.
В боковое окно заглядывало вечернее солнце.
— Скоро скотина пригонится. Подоим корову и ляжем спать.
— А папа где? Уехал?
— Уехал, дочка, уехал. Велел сказать: денька через два-три и тебя возьмет повидаться с матерью. А пока ей нельзя волноваться.
Легкая тревога — отголосок сна — осталась на сердце, не уходила. Ниночка встала с дивана, увидела себя в зеркале, стоящем на комоде. Талия заметно пополнела, живот вырос. Нет, конечно, никому она больше не нужна будет. Придумала себе в утешение, что со временем все образуется, уляжется и жизнь войдет в прежнюю колею. Напрасно она так думала, теперь уже ничего не поправишь, ни-че-го. Кому она нужна будет с ребенком? Надеяться не на что, впереди у нее тягуче-серые, скучные дни, месяцы, годы. И не к чему обманывать себя…
Маня Пирогова собрала на стол. Ниночка поела без аппетита, через силу. Безучастно наблюдала она, как отправляется обычный круг вечерних домашних забот, и в душе у нее росло, копилось что-то смутное, невысказанное, оно искало и не находило выхода.
Погасло солнце, по-осеннему коротко отгорел закат, быстро стало темнеть.
— Где спать-то ляжешь? — спросила Маня, и Ниночка равнодушно махнула в сторону горницы:
— Там.
— А я опять на печке лягу. Милое дело…
Ниночка устроилась на диване, но заснуть не могла. Лежала в темноте с открытыми бессонными глазами, и душу камнем давила тяжесть.
«Мама, — неслышно, одними губами сказала Ниночка. — Где ты, мама?»
Тяжесть, давящая грудь, — это ночь, темнота, безмолвие. Невыносимо.
Ниночка встала с дивана, невидяще подошла к двери, нашарила ручку. Нажала на нее, дверь не поддалась. Тогда она налегла на нее всем телом, петли тягуче заскрипели.
Подошла к печке, поднялась по лестнице.
— Тетя Маня…
— Что, дочка? Плохо одной-то?
— Плохо.
— Иди ко мне, иди…
Ниночка легла рядом с Маней, уткнулась ей в плечо и зарыдала — сначала тихо, сдерживая себя, а потом по-бабьи длинно, с подвывом.
Маня утешала ее, успокаивала, гладила по волосам.
— Я ведь… тетя Маня… беременная…
Выговорив, выдавив из себя эти слова, она зарыдала еще громче и безутешнее.
— Ну, так что же? — уговаривала ее Маня. — Не калека, чай… Ты послушай-ка, что я тебе скажу. Послушай-ка. Ты дочь-то мою, Софью, знаешь ли? Она в Дятлове живет, хоть редко, а навещает меня… Никому об этом не рассказывала, а тебе расскажу. Я ведь ее из петли вынула…
Ниночка стихла, затаилась возле Мани. Ходики тикали на стене — дом жил.
— В конце войны это случилось, в сорок четвертом. Летом к нам в деревню красноармейцев пригнали — нам, бабам горемычным, помогать. Девки с ума все посходили. Каждый вечер — гулянки под гармонь. Моей-то Софье тогда восемнадцать было, как тебе сейчас. Ну, и закрутила любовь с одним лейтенантом. Ничего не скажу, видный парень был, симпатичный, да и моя-то девка неплоха была. Говорила ей не раз: смотри, Софья, они люди здесь временные, безадресные… Э-э, да кто матерей слушает! Каждое утро с ней маялась, когда нужно было на работу поднимать. А вечером все равно на гулянку… Сколько красноармейцы у нас пробыли, не помню, — может, две недели, может, три. Однажды утром построили их и — через всю деревню — обратно. Дружно прошли, с песней. До сих пор ее помню: «Не забывай, подруга дорогая, про наши встречи, клятвы и мечты…» Ушли. Девки наши приуныли, а Софья сама не своя ходит. Ну, думала, пройдет, время все загладит. Да не тут-то было, дальше — хуже. Словно подменили девку. Сначала думала: письма ждет от лейтенанта, а он не пишет. Потом неладное стала чувствовать. Вижу: не в себе девка, не знает, куда деть себя, в глазах — тоска. Заговорю с ней — молчит, а то уйдет и дверью хлопнет. Как-то вырвалось у нее: мол, жить ей не хочется. Я следить за ней стала. В самом деле, думаю, что-нибудь сделает с собой… Один раз иду на ферму, и вдруг что-то в сердце меня толкнуло. Как, откуда передалось — не знаю, только говорю себе: а ведь с Софьей беда случилась. Повернула и — бегом — обратно… Минутой бы позже прибежала — и, может, уж поздно было бы. В чувство ее привела, а сама и смеюсь, и плачу, думала — с ума схожу. Положила ее на кровать, а она мне и говорит: «Что ты, мама, сделала со мной? У меня ребенок будет…» — «Эка беда, — говорю, — ребенок. Да он, вот увидишь, радостью тебе будет. И никто тебе худого слова сказать не посмеет… Не вернется твой лейтенант — другой человек найдется, лучше его. А ребенка, если тебе он помехой будет, я воспитаю…» И ведь все по-моему вышло. Родила мальчика, в честь деда Ванюшкой его назвали — Иваном. Правда, с фермы мне пришлось уйти на время, пока не подрос мальчик. Не хотелось, чтобы связывал он Софью, — молодая ведь еще, жизнь свою устраивать надо… Скоро она замуж вышла, за Виктора, в Дятлово уехала. Да так они хорошо зажили! Сердце не нарадуется. Ванюшку забрали у меня, усыновил его Виктор. Вот так и получилось: родился без отца, а вырос с отцом… Теперь у самого дети — правнуки мои. Смышленые да голосистые… Старший-то еще только в школу пошел, а уж талант открылся у него — к рисованию. Из Москвы большие люди приезжали, рисунками интересовались. Сказали: редкие у мальчика способности… Да ты приходи ко мне, у меня их много, рисунков-то его. В каждом письме шлет. И обязательно напишет! «Бабе Мане…» Помнит бабушку, не забывает…
Читать дальше