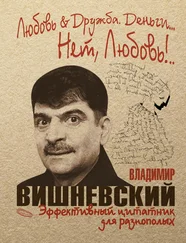В чистом пространстве неба возник шарообразный гул, он быстро вырастал, надвигался. Маня перекрестилась на ходу. Ниночка заметила это ее скорее невольное, чем осмысленное движение.
— Тетя Маня, это самолет.
— Боюсь я их, дочка. Часто они летают теперь, а все не по себе делается, когда услышу. Особенно ночью — сердце так и забьется. Не за себя, дочка, страшно — я уж свое прожила, за людей страшно. Архаровцы мои вон ничего не боятся — знай в карты дуются да музыку свою слушают. Мы, говорят, тетя Маня, приехали грани стирать между городом и деревней. Слава богу, говорю им, когда вы их сотрете, меня уже в живых не будет. А про себя думаю: если бы да мой Иван был жив, что бы он сказал? Горячий он был человек, несдержанный. Он бы этих работничков до самого города с кнутом гнал… Помню, из района в наш колхоз начальник завился — прыткий, картавый, не говорит, а горох сыплет. Пошел по-своему указывать да переуказывать. Мой-то слушал, слушал его, а потом подозвал к себе конюха, Федора Шальнова, и велел Кобчика запрягать, жеребца. Федор запряг, подъехал, муж подхватил начальника под мышки — и в тарантас. А конь-то злой был — дьявол, а не конь. И понес он того начальника во весь мах. На другой день снимать приехали Ивана, а колхозники горой за него. Бились, бились — так ничего и не добились…
— Тетя Маня, а вам хорошо с ним было, с мужем?
— Нелегко, дочка, время было нелегкое. Но обижать он меня не обижал, не помню такого. А за детей, когда я двух сыновей ему родила, он меня на руках носил. Мы, всё говорил, для них такую жизнь построим!..
— Тетя Маня, а как вы за него замуж вышли?
— Как вышла? Обыкновенно. Попробуй за него не выйди — он бы и дом твой по бревнышкам раскатал…
Близко уже был лес, надвинулся темной своей стеной, сквозь которую просвечивали белые стволы берез.
— Нам вправо нужно забрать, — сказала Маня и повернула вдоль опушки. — Ты, дочка, под елочки заглядывай, — наставляла она Ниночку. — Под елочками белые прячутся. Между березок посматривай. Найдешь гриб — ищи другие рядом…
И они пошли по краю опрятного березового леса. Росли в нем — группами и в одиночку — елочки, и Ниночка добросовестно заглядывала под них. Грибы стали попадаться сразу же — белые, подберезовики, подосиновики. Ниночка срезала их под корень, очищала и клала в корзинку. В одном месте она нашла восемь белых, в другом — пять. Трудно было поверить: всего несколько дней назад в ее жизни был комбинат с его непрекращающимся грохотом, было общежитие, «птичник», была Люська Цаплина, королева моды, косметики, шейка. И вот эта березовая солнечная тишина, о которой она даже и не думала никогда в той, другой жизни. Когда ей приходилось видеть в городском транспорте возвращающихся из леса усталых, слишком уж спокойных, все еще отрешенных от суеты многолюдья грибников, она смотрела на них как на людей ненормальных, которым не лень тащиться за семь верст киселя хлебать…
Они кружили по лесу медленно, то и дело возвращались к опушке, не теряли ее из виду. И все время держались вместе. Ниночке иногда казалось, что Маня наводит ее на грибы, нарочно пропускает их, оставляя для нее.
— Устала, дочка? — спросила Маня, когда они в очередной раз вышли на опушку.
Признаться честно, она устала, однако решила держаться. Маня заглянула в ее корзинку, похвалила:
— Молодец, много набрала. Сколько белых-то?
— Я не считала.
— Ничего, — успокоила ее Маня, — дома сосчитаешь. Да и домой уже пора, — решила она, поглядев на солнце. — На стоянку скоро, корову доить. Посидим минут пятнадцать — и пойдем.
Отдохнуть они решили у скирды соломы. Ниночка легла на спину, забросив руки на голову. Неподвижный воздух, голубое спокойное небо располагали к тому, чтобы остаться здесь надолго.
— Тетя Маня, а хорошо здесь, — поделилась своим настроением Ниночка.
— Плохо ли, дочка, у нас, — откликнулась Маня. — Человек-то все завтрашний день норовит догнать, вот и не видит ничего вокруг себя.
Ниночка закрыла глаза и сквозь легкую дрему вдруг услышала песню. Пела вполголоса Маня Пирогова. Она отчетливо выговаривала слова, а мелодию как бы только намечала:
Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына?
Маня перестала петь, вздохнула.
— Мой Иван уж больно любил эту песню. А я певунья была. В праздник за столом обязательно попросит: «Спой про рябину». Я запою, а он голову наклонит над столом и глаза кулаком вытирает. «Ты что, — спрошу, — лишнюю рюмку выпил?» А он мне: «Чует мое сердце: быть нам в разлуке». Говорят, кто рано умирает, предчувствует свою смерть…
Читать дальше