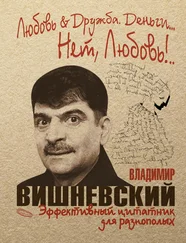Маня Пирогова только что подоила корову и теперь хлопочет у стола, процеживая молоко в кринки. Она высока ростом, чуть-чуть сутуловата, скора на ногу и ловка в движениях. Любое дело горит у нее в руках, и это несмотря на возраст — ей где-то возле семидесяти, а может, и за семьдесят. Язык у нее, как и она сама, почти не знает отдыха, но в деревне она не слывет балаболкой, потому что попусту ничего не говорит.
Ниночка слушала Маню Пирогову, которая пришла к ним домовничать, и странное успокоение ласковым, теплым дождем омывало ей душу, и она, душа, высохшая, окаменевшая от тоски и переживаний, оттаивала, размягчалась.
Спустив молоко в подпечье, Маня вымыла подойник и поставила его на печь, чтобы он просох как следует. Все дела на сегодня были переделаны.
— Ну, вот и все, — вздохнула Маня и села на лавку, уронив меж колен тяжелые, уставшие руки. — Еще один день прошел, слава богу…
Ниночка понимала: если дела переделаны, нужно ложиться спать — так уж ведется в деревне. Однако ей не хотелось оставаться одной, и она медлила. Маня, конечно, ляжет спать на печку, а Ниночке придется идти на диван, в горницу. В горнице ей опять будет пусто и одиноко. Ватное одеяло согреет ее тело, но душе все равно будет холодно. Нет, одной никак нельзя оставаться.
— Тетя Маня, ложитесь в горнице на кровать, — предложила Ниночка, — а я на диван лягу.
— Да нет уж, дочка, я по-стариковски — на печку.
— А можно, я с вами полежу? — попросилась Ниночка.
— Конечно, доченька. Ложись, где тебе нравится. Я вот сейчас постелю там, чтобы тебе не на голых кирпичах лежать.
Они договорились: Ниночка ляжет к трубе, а Маня — с краю, потому что утром вставать ей раным-рано.
— Я корову вашу подою, — говорила, укладываясь, Маня, — а потом побегу к себе печку топить — моим-то архаровцам надо завтрак готовить.
Архаровцами она называла двух своих постояльцев — шефов из города, которых, как уже знала Ниночка, «пригнали» в колхоз на время уборочных работ.
— Работнички…
Иначе как с осуждением и насмешкой Маня о них не отзывалась.
— Встают в семь, на работу к восьми выходят. В пять, а то и раньше дома уже, в карты дуются. У нас, говорят, восьмичасовой рабочий день и два выходных. Я им говорю: земля-то не признает ваш восьмичасовой день, а выходных у нее летом совсем нет. Мы, бывало, в пять, а то и в четыре в поле-то выезжали — по росе, по холодку еще, домой тоже по росе возвращались… Смеются: так вы, бабушка, за трудодни работали, а мы за деньги. Мы, говорят, сейчас в карты играем, а зарплата нам все равно идет… Избаловали совсем народ. Это ведь подумать только: не работают, а деньги получают. Две зарплаты им причитается — у себя, на заводе, и здесь, в колхозе. А работают как? Бригадир-то у нас — «бугор», по-ихнему, — пьяница из пьяниц. Придет к ним вечером — они ему вина стакан. Ну, и пишет, сколько скажут… Да ежели бы мы раньше хоть половину их денег получали, в колхозы-то сейчас, как в институт, по конкурсу принимали, а не так: нате вам, боже, что нам негоже… Я их спрашиваю: как же там, на заводе, без вас обходятся? А нас, отвечают, там специально держат — для колхоза, чтобы ударников не посылать… Страх, сколько лишних-то людей развели! И всем деньги платят. А в колхозе не хватает народу. Чудно как-то… Я им говорю: ехали бы уж в деревню, жили бы здесь и работали. Да как следует работали!.. Хлеб-то надо кому-то растить, без хлеба человек не может жить. Без ваших, говорю, «магов» всяких — это громыхают которые почем зря — может, а без хлеба нет. Не понимают, смеются… Это потому, что они без хлеба не жили. А мы жили. Мы, дочка, столько всего в своей жизни перетерпели — страшно и вспомнить!..
Ниночка лежала в темноте с открытыми глазами. Перед ней развертывалась совсем другая жизнь, чужая, во многом непонятная и все же волнующая чем-то. Хотелось вникнуть в нее, понять, почему человек, повидав то, что и вспомнить-то страшно, так спокойно говорит об этом, не жалуется, не плачется.
— Муж-то у меня активист был, все за колхоз стоял и первым в него записался. Сразу же его и председателем выбрали. Пришел с собрания и говорит: «Теперь, Маня, по-новому жисть начнем. Такая у нас жисть пойдет — умирать не захочется!» А я его подзадориваю: «Чего-то и раньше не больно хотелось умирать-то». Он на меня в наступление пошел. «Сравнила! — кричит. — То раньше, а то теперь. Да мы, — говорит, — с песнями теперь будем работать». Остановился передо мной, руками машет, как мельница, а у самого глаза белые сделались. Эдак всегда у него было, когда слов нет, а азарту много. На азарте-то этом и попер колхоз, словно конь застоявшийся. И вправду, сила-то у него непомерная была. Что голосище, что фигура… Я высока ростом, а он меня на голову выше. И все сам, все сам делал. В конторе, грешный, не любил сидеть, чуть что — в поле бежит, в луг. Вырвет у кого-нибудь вилы, ежели покажется, что с прохладцей работает, — и давай сено на стог метать, что ни навильник, то копна… С косой всегда передом шел, валит траву — аж стон кругом стоит, косье дугой изгибается. Остановится, назад повернется: «А ну, не отставать!» — крикнет мужикам, да только куда там, разве за ним угонишься… Поначалу-то и вправду по его все выходило: на работу — с песнями, с работы — с песнями. А осенью, смотрю, чего-то пригорюнился мой мужик, призадумался. «Что, — спрашиваю, — али в районе нагоняй дали?» Такое случалось с ним, потому что впереди всех норовил быть и ради того ни с чем не считался, ни себя, ни людей не щадил. Вынул из кармана какую-то бумажку смятую, припечатал ее всей ладонью к столу. «Вот, — говорит, — смотри!» — «А чего смотреть-то? Цифры какие-то». — «Цифры! — кричит. — В том-то и дело, что цифры! Мы за эти цифры целый год ломили!» — «Объясни», — говорю ему спокойно. «Вот, — тычет пальцем в бумажку, — столько мы мяса сдали. А это — столько нам за каждый центнер уплатили». — «Ну?» — спрашиваю, словно бы ничего не понимаю. «Дуги гну! — он мне сердито, будто я в чем-то виновата. — А знаешь, во сколько нам бочка дегтю обходится?» — «Откуда мне знать? — говорю. — Я его не покупала». — «В том-то и дело, что не покупала! — горячится мой Иван, словно самовар кипящий брызжет. — Двести пятьдесят рублей бочка дегтю стоит — государственная цена». — «Так, так», — начинаю соображать, куда он клонит. Схватил бумажку, скомкал, опять сунул в карман. «На лето, — говорит, — нам пять бочек надо. И что же выходит? Тонна мяса — бочка дегтю. А окромя дегтю, мне сколько всего еще требуется!..» И заходил, заходил по избе — половицы гнутся. «А что я колхозникам на трудодни дам, чтобы они песни пели?..» Любил он, чтобы с песнями работали. Помню, на отчетном с докладом выступал. Всякие слова говорил, цифры называл. А потом сложил тетрадку с докладом, сунул ее в грудной карман и говорит: «Будем мы с песнями работать! Вся жизнь у нас будет праздник!..» Не знаю, что бы с ним дальше было, только недолго прожил мой мужик. И умер-то — кто бы мог подумать! — как дите слабогрудое. Пришел из бани, ковш холодной воды хватил и слег вскорости… Трое детей у меня осталось на руках — дочь, старшая, и два сына…
Читать дальше