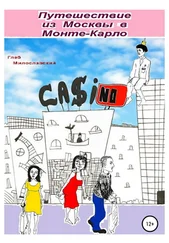Шарманщиков закрыл глаза, Ане даже показалось, что он заснул. Но Константин Иванович продолжил:
— В конце семидесятых я оказался на поселении. Естественно, что не работал, но другие зеки кормили меня. Времени свободного было много, рядом школа. Присмотрел там молодую учительницу. Светленькая, стройненькая, меня боится. А я ее попугать решил: завалился как-то в их библиотеку. «Дайте, — говорю, — Лескова почитать «Очарованный странник.» Девушка белая от страха — еще бы, перед ней уголовник, которому уже под пятьдесят, и во взгляде у меня, разумеется, доброты мало, и голос хриплый. Но ничего, взяла учителка себя в руки, говорит: «Хороший выбор. Вы уже что-нибудь читали Лескова?» Ну я пошел «Очарованного странника» с первой страницы наизусть шпарить. Девушка книгу открыла, следит за мной и от удивления растерялась. «Разве бывает такая память у людей?» — спрашивает. А я отвечаю: «На хорошее и доброе память должна быть беспредельна, а на дурное — короткая». Проговорили мы с ней до вечера, я ее до дому проводил. Вот так и начали мы с ней встречаться. И вдруг ка-ак свалится на меня любовь. В жизни такого не было, а тут просто загибаюсь от нежности к ней и от желания видеть ее постоянно. Но мне-то сорок шесть, а ей двадцать с хвостиком, я — уголовник известный, а она скромница и тихоня. Плакать даже хотелось от разности наших судеб и от того, что никогда она не будет моей. Короче, решился я. Затарился в магазине продуктами, собрался с поселения соскочить. Пусть потом ловят, срок добавляют, на зону отправляют, но жить рядом с нею — только мучиться от того, что поцеловать ее не могу. Вышел из домишка своего и леском вдоль трассы. Километров десять прошел, заныло сердце. «Как это? — думаю, — не попрощавшись с нею.» И бегом обратно. Подхожу к ее крылечку, только руку поднял, чтобы постучать — вдруг дверь распахивается, и на пороге она. Вздрогнула, когда мы лицом к лицу столкнулись. «Вы ко мне?» — шепчет. «Попрощаться, — отвечаю, — ухожу, на другое место переводят.»
Она бледная стоит. «Куда Вас отправляют?» Руками развожу. «Я с Вами, — шепчет она, — только вещи соберу.» Кинулась в дом, там что-то гремит, книги сыпятся. Потом выскакивает, бросается мне на шею. «Я люблю Вас, Константин Иванович.» Вот так мы друг другу и признались.
Так лето прошло, жаркое от нашей любви. Дожди зарядили. Я ей говорю: «Родная, я свяжусь с друзьями в Ленинграде: они тебя на работу устроят и с жильем помогут, а мне уж недолго осталось. Устроишься, а там я уж подъеду, поженимся, новая жизнь будет — такая, чтобы ты не боялась за меня и за наше будущее». Не хотела она, плакала даже, но все же отправилась. И только когда я на паром ее проводил, она поцеловала меня и сказала, что ждет ребенка.
А теперь ты, милая, найди ее и помоги как сможешь. Имя ее…
— Соловьева Любовь Петровна, — прошептала Аня, — это моя мама. А Шептало она стала, когда фиктивно вышла замуж за старика-соседа, чтобы у меня отчество было и две комнаты, которые Сергей Сергеевич хотел оставить нам после смерти. А деревня в Коми называлась Сторожевск. Возле школы был магазин, за ним огромные лопухи, потом ее домик, но вход не с улицы, а со двора. А напротив жил вечно пьяный бригадир, который прямо с крыльца своей избы стрелял по пролетающим гусям. А мама моя очень боялась этих выстрелов. Имя для дочери Вы придумали, а если родился бы сын, просили назвать Иваном. Куда же Вы пропали тогда?
Старик лежал, крепко сжав веки. Потом пошевелил пальцами, погоди, мол, сейчас расскажу. Аня смотрела на его посеревшее лицо, и ей хотелось плакать.
— Не выдержал я, — шепотом начал Шарманщиков, — и осенью сбежал. Паспорт у меня липовый имелся, одежонка приличная и деньги тоже. Добрался я до Сыктывкара, сел в поезд. Вагончик купейный. Еду я в нем день, а вечером в вагон-ресторан отправился, бреду по плацкартным. Смотрю — в одном из них зек лесорубов в карты катает. Он меня заприметил, понял, кто я таков: мы-то друг друга в любой одежде признаем.
— Присаживайтесь, товарищ, — говорит он, — банчок соорудим.
Хочет, видать, выигрышем поделиться.
— Не играю, — отвечаю ему, — и Вам не советую.
И знаками показываю: кончай катку! Я-то вижу, что у лесорубов уже по два топора в каждом глазу.
А он веселый, хотя и кашляет постоянно. Возвращаюсь из вагона-ресторана, а лесорубы его уже в тамбуре метелят. Парень уже кровью захлебывается, лежит, а они его уже всерьез добивают. Края вокруг лесные, люди — звери. Положил я обоих, взял зека под мышки и к себе в купе потащил. На ближайшей станции, думал, выйдем оба. А там уже поджидают нас. Я не сопротивлялся. Жаль, конечно, что до Любаши не добрался, но кем бы я был, если бы больного волкам на съедение оставил. Ведут меня трое мусоров, а тут из вагона опять эти лесорубы выскочили. Пьяные уже. Подбегают и хлоп зека по физии, а потом на меня. Милиционеры расступились, чтобы не мешать им, посмеиваются. Тут уж я разошелся. Уже бить начал так, чтобы искалечить. Полетели оба лесоруба под поезд как бревна. Милиционеры на меня втроем, я не сопротивляюсь, так для вида пару раз рожу подставил. А они еще того доходягу лежащего добивать стали. И завелся я. Еще какие-то люди им на помощь прыгнули. Завалили меня. Очнулся в тюремной больнице, рядом зек этот загибается. Короче, это был Сашкин отец. За побег, за увечья, милиционерам причиненные, получил я на полную катушку. А когда вышел, в Ленинград уже не поехал: у Любаши, думал, своя жизнь — семья, муж. А я не оправдал ее надежд, обманул, выходит, и бросил.
Читать дальше


![Лесли Чартерис - Пикник на Тенерифе [Пикник на Тенерифе. Король нищих. Святой в Голливуде. Бешеные деньги. Шантаж. Земля обетованная. Принцип Монте-Карло]](/books/87044/lesli-charteris-piknik-na-tenerife-piknik-na-tenerife-korol-nishhih-svyatoj-v-gollivude-thumb.webp)





![Галина Куликова - Не ждите меня в Монте-Карло [litres с оптимизированной обложкой]](/books/432970/galina-kulikova-ne-zhdite-menya-v-monte-thumb.webp)