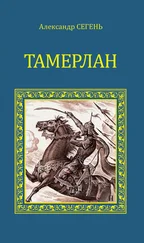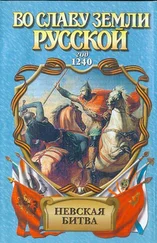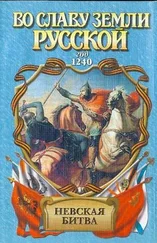— А куда спешить, голосочек мой, — ласково ответил муж. — Степаныч уже умер, орден у меня в кармане.
— Жжёнов ему умер. А если и Любшин?
— А этому с чего умирать? Он на три года меня моложе.
— У него сердчишко.
— Не умрет. Нет, любовь моя, лучше придержать и выстрелить в десятку. Кто знает, может, это вообще моя последняя пеликула.
Глава семнадцатая
Общий язык
— Нет, любимый, не последняя, — вздохнула Марта Валерьевна, досмотрев «Исцелителя» и переходя к финальному фильму человека, по-прежнему сидящего в горделивой позе, готового встретить свою новую неведомую судьбу, как сидит важный зритель в ожидании премьеры нового фильма.
Таким он всегда оставался и в жизни — несгибаемым, гордым, зачастую по-ослиному упертым. Она любила его просто потому, что любила, а за несгибаемость уважала, редко в ком наблюдая такую же постоянную стойкость и душевную чистоту. Знала, что только до нее он в отношении с женщинами вел себя, как большинство в киношном мире, распутно, однако во всем другом и до нее слыл принципиальным. И притом не занудным.
Запомнилось, как между окончанием работы над «Исцелителем» и премьерой все вокруг как-то умирали, умирали, умирали, любимые и нелюбимые, приятные и ненавистные: Бергман и Антониони, причем оба в один день, вечно пьяный Ельцин и муж своей властной жены Ростропович, ненавистный Кирилл Лавров и прекрасная Таня Лаврова, замечательные Стасик Ростоцкий и Нина Меньшикова, хмурый Элем Климов и веселый Вадик Захарченко, умер любимый Терентьевич — хирург-бог, умер патриарх, подаривший ему икону-идею, умер Солженицын, когда-то снабдивший Незримова целебным зельем от рака. На похоронах Солженицына мелькнул и Адамантов, ныне уже генерал ФСБ. Не сдержался и шепнул Эолу Федоровичу:
— А все-таки покойный был изрядная сволочь!
Умерли женщина родина-мать Нонна Мордюкова, благородный Олег Янковский и обаятельный Саша Абдулов, а в Америке при пустячной операции умер великий кинорежиссер Мингелла, которого сначала вознесли до небес после «Английского пациента», а потом затерли после «Мистера Рипли», поскольку там главный злодей гомосексуалист. Мингеллу Эол Федорович особенно жалел, потому что жадно ждал от него новых шедевров.
А в кино царствовала пошлейшая богиня Раскрутка Пиар, стреляя в экран всякой дрянью типа «Сволочей», «Стиляг», «Ночных дозоров», «Дневных дозоров» и прочей пустопорожней чепухи. Когда Незримов наконец решился на премьеру «Исцелителя», вышел лунгинский «Остров» и плечом отбросил Эолов шедевр на бортик, как более наглый хоккеист — менее наглого. Непонятно почему, все говорили о Лунгине и почти не замечали Незримова, будто потомок богов уже вообще никуда не годится.
Где-то там же затерялся юбилей Марты Валерьевны, ей исполнилось шестьдесят, но она все еще была молода и подвижна, вела дела, изредка что-то читала на радио и деликатно пилила мужа, что пора ему снимать следующее кино.
— Матушка, мне скоро во-семь-де-сят, — отвечал Незримов, будто это число состояло не из двух, а из четырех цифр — 8070.
Его больше всего огорчил балабановский «Груз 200» — как такой талантливый режик смог снять полнейшее антикино! Но именно это уязвило и вдруг всколыхнуло потомка богов.
— Нет! — решительно произнес он. — Надо мне, как Эсхилу, вернуться из ада. В комедии у этого... как его... Погоди, погоди, сам вспомню... У Аристофана! А ты говоришь, у меня память слабеет.
— Я говорю?! Окстись, папаша!
— Какой я вам папаша? Хороший сынок в могиле, а дурной...
Кстати, дурной продолжал идти в гору, писал из Америки, где он уже работал в самом НАСА, в каком-то там летно-исследовательском центре Драйдена, и от души презирал своего отца, считая его откровенным неудачником: «Мне искренне жаль, что ты так и не стал Тарковским или хотя бы Эйзенштейном». «Ты тоже, знаешь ли, не Циолковский! И не Королев!» — в ответ писал с негодованием папаша. Но на самом деле радовался, что сынуля пристроен и едва ли ждет с нетерпением, когда отец окочурится и наступит время делить наследство.
Однако возвращение Эсхила затянулось на год, покуда не грянул следующий сейсмоопасный толчок — «Забавные игры» Михаэля Ханеке, о которых все, начиная с неугомонной Люблянской, писали как о новом прорыве в иной мир искусства кино. Ханеке у них, Звягинцев у нас — два гения антимиров, в которых дышит холод космоса, где нет места прежним идеалам какого-то там, ишь ты, поди ж ты, гуманизма. Два жестоких ангела в белоснежных одеждах у Ханеке издеваются и убивают обывателей не потому, что те им чем-то насолили, а просто ради самого насилия и убийства...
Читать дальше