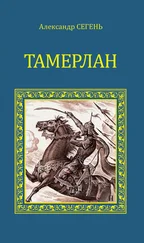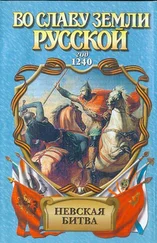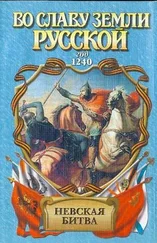Но вдруг посыпались неожиданности. Началось с того, что хорошей июльской ночью Эолу Федоровичу тоже приснился Лука Войно-Ясенецкий, вот так прямо он, и никто другой. Естественно, не в долгополой рясе и не в черном поповском цилиндре без полей, а белоснежным хирургом, склонившимся над пациентом Незримовым, которому только что сделал операцию, плотно зашил, похлопал по плечу и сказал голосом Любшина: «Ну вот, порядок. Твой день — мой день. А со Степанычем поторопитесь», — и, щелкнув снимаемыми резиновыми перчатками, принялся мыть руки в раковине, а прооперированного Незримова повезли куда-то в никуда.
— До чего же киношный сон! — возмущался Эол Федорович за завтраком, рассказав жене.
— Знак дает, — откликнулась та.
— Херак он дает. Где деньги, Зин?
— Дал знак — даст денег.
— Вот знаешь, не нравится мне это твое богословие. Может, ты уже на исповедь ходишь тайком?
— А вот храм у нас в Изварине восстановят, и пойду. Под этим храмом наш Толик лежит.
— Иди, иди, — пробурчал потомок языческих богов и добавил ехидно: — Аллилуйчики-помилуйчики!
В тот же день пополудни позвонил Ньегес:
— Ёлкин-Палкин! Ты жив еще там? Я в Москве. Надолго, на целых три недели. Может, забацаем сценаришко?
А вечером еще хуже: позвонил и Степаныч! Слабым, но все еще своим непередаваемым жжёновским голосом сообщил:
— Эол Федорович, я тут с Питером по телефону разговаривал. Угадай с трех раз с кем. Говорят, ты хотел меня в кино опять снимать, да раньше времени в гроб положил.
И — закипела новая работа! Снова замелькали эскизы, косточка за косточкой заскрипел скелет сценария, поскромней, товарищ Незримов, поскромней, смета-сметана тебе пока если и светит, то не тридцати— и даже не двадцатипроцентная, а так, жиденькая, отщепенец и подлец Сашка словно не имел столь долгого и мучительного перерыва в своей главной работе, набрасывал сцену за сценой играючи, как тореадор на арене. Он прискакал по какому-то своему бизнесу, в меру толстый, морда в модной щетине, почти не постаревший, в свои такие же, как у Эола, семьдесят с небольшим — вполне омбре виталь, то есть витальный, а ничуть не летальный. Сразу же огорчил:
— «Волшебница» получилась что надо, но я бы деталек подбросил.
— Каких, например?
— Она бы у меня работала уборщицей и всё-превсё видела бы через свое волшебное ведро, все пакости отражались бы в воде ее ведра, понимаешь? А когда бы начинала творить чудеса, надевала бы особенные волшебные резиновые перчатки. Такие длинные, золотого цвета.
— Вот ты кобельеро! Где раньше-то был? Действительно, классные детали. И пеликулу бы назвать «Волшебные резиновые перчатки золотого цвета». Хоть переснимай, ей-богу!
— Ничего не надо переснимать, — грозно встала над старыми друзьями властная жена. — Ишь чего удумал, идальго залетный, смущать режиссера, когда фильм уже на экраны вышел. Вам к вину что еще подать? Кончайте хлестать без закуски.
Да и Степаныч примчался к ним на дачу отнюдь не живым трупом, хоть и не на милицейском мотоцикле из «Берегись автомобиля»:
— Я, между прочим, еще вполне член, даже работаю в комиссии по помилованию. Что там, опять мне вашего Айболита играть определите? Я готов.
С ролью Луки тоже недолго определялись — конечно же Любшин! Наплевать на несходство, главное — сущность. И голос во сне был не Державина, а его, Стасика. Да и патриарший референт мгновенно ретировался, когда узнал, что по сценарию надо будет усы и бороду сбривать, когда герой в сибирские санатории путевку получит. Нет, братцы, негоже потом в Чистый переулок с босым лицом являться. Да и, знаете ли, погорячился я, при святейшем много не поснимаешься, дел выше крыши.
Милый и гениальный Стасик к своим семидесяти обрел полнейшую белоснежно-серебристую седину и в последние годы ходил с длинными волосами, усами и бородой, во всем этом блеске и снимался в недавних картинах — «Обнаженной натуре» Ахметова, «Кино про кино» Рубинчика, «Кадрили» Титова и других таких же, далеко не шедеврах. Перспектива бритья его возмутила до глубины души, но уломали и, естественно, съемку сцен, где он будет бритый, поставили на конец.
Увлекательный подготовительный процесс пулей навылет пробила смерть Лени Филатова. Бедняга отмучился. Инсульт, удаление обеих почек, больше двух лет на гемодиализе, донорская почка. Нигде не снимался, только из последних сил делал и делал телепередачу «Чтобы помнили» — об ушедших в мир иной артистах и режиссерах. Незримов еще взбадривал его: доживи до тех пор, пока обо мне можно будет. Но Леня не дожил. Стала ли для него пагубной роль в «Индульто», потомок богов не мог утверждать уверенно. После похорон Филатова на Ваганьковском он несколько недель не мог вернуться к работе над новым фильмом, кино казалось отвратительным. Но вернулся.
Читать дальше