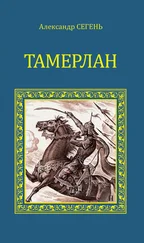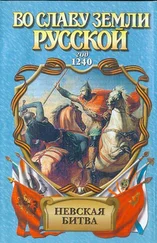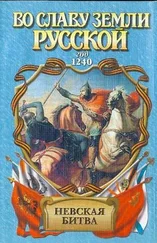— Слушай, ты, звезда Альтаир! — взбесился Шукшин. — Про Стеньку Разина и княжну — самая любимая в народе песня, без нее ни одно застолье не обходится. Скажешь, и народ наш придурок?
— В этом случае да, придурок.
— Народ?! Эй, вы слыхали? Народ наш придурок!
И понеслось!
— Да народ наш — стихия, причем космическая, а Степан пожертвовал самое что у него было на тот миг дорогое, когда понял, что влюбился в персиянку. И в жертву принес самое дорогое, как Абрам Исака.
— От Авраама Бог потребовал, а от Стеньки? Тоже Бог?
— Ни хрена ты не понимаешь, как я погляжу!
— Ребята, ребята, не ссорьтесь, Новый год же.
— Да я знать его не хочу, приспособленца!
— Это я приспособленец?
— Ты, кто же еще!
— А кто у нас тут на днях и трудовичка получил, и братьев отхватил? — возмутился Незримов, имея в виду недавно полученные Шукшиным орден Трудового красного знамени и всероссийскую кинопремию имени братьев Васильевых.
— Завидно?
— Да я сам тебя знать не хочу, хотя пишешь и снимаешь ты, гад, здорово, а Стенька твой козел, и если он и представляет собой часть нашего народа, то только ту часть, из-за которой все беды, и я не вижу никакой красоты в убиении несчастной персиянки.
— Потому что в твоей душе простора нет, вот что я тебе скажу.
— Потому что в твоей его слишком много.
— Да перестаньте вы лаяться!
— Поднимите руки, кто за Стеньку Разина! Почти все? А кто против? Опять почти все? Да ну вас, шантрапа несерьезная!
— Да если вспомнить, какой первый русский фильм? «Понизовая вольница». Про кого? Про Стеньку Разина, как он княжну в Волгу захреначил.
— Скажи на милость, шедевр Дранкова. да твой Дранков потом бежал за границу, после революции, и порнографию снимал.
— Откуда тебе это известно?
— От верблюда.
— Вот и поцелуйся со своим верблюдом!
— В Праге и Париже сейчас тоже про кровь заговорили, мол, пустить надо кровушку, а то скучно.
— Ну-ну, съездил, мне Прага и Париж на хрен сдались, я о нашей истории думаю.
— Вот и думай, чтобы такие, как Стенька, больше не повторялись, а ты про него снимать собрался, чтобы опять всколыхнуть русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
— Позвольте вам не позволить, товарищ бог ветра, — вмешался Высоцкий. — я Хлопушу в «Пугачеве» играю и смею выступить в защиту Василия, стихия бунта сродни стихии поэтической, Блок видел в революции высочайшую поэзию, а вы нас толкаете к буржуазному умиротворению, мол, мы вас будем грабить, а вы не смейте бунтовать? Так получается?
— Да ты, Володя, сам весь бунт, что с тебя взять. как там у тебя с француженкой?
— Все путем у меня с француженкой, а то, что Чехия и Франция закипают, я в том вижу здоровые атмосферные потоки, ветр очищающий, так-то вот, бог ветра!
Что было дальше, Эол не помнил, проснулся на Шаболовке, в объятиях родной Арфы, заиграл на ее струнах, потом, опохмеляясь, расспрашивал.
— Да разругался ты со всеми окончательно.
— Разругался?.. Эх, черт!
— Потом мириться полез, целоваться со всеми, всех на премьеру приглашал, меня хотел в Волгу бросить.
— Вот дурак! А ты?
— Щас прямо я бы тебе позволила. Сама тебя в «Волгу» бросила и увезла. В такси то есть. А то бы ты еще и подрался с кем-нибудь.
— Чтобы я! Свою девочку! Это я так, сдуру. Ножки твои целовать хочу!
И вот Гоша Жжёнов в роли Шилова выходит к морю, садится на скамью, печально смотрит на набегающие волны, внимает шуму прибоя... К нему подходит Вика Федорова в роли Розы, садится рядом, обнимает, гладит по голове. Волны катятся с шелестом, как хорошо жить, конец блокады, конец голода. Конец фильма. Восторженные аплодисменты зрителей в ленинградском «Гиганте», толпа блокадников, зареванных, взволнованных, благодарных:
— Спасибо вам! Храни вас Бог! Низкий вам поклон от всех ленинградцев! Дайте вас поцеловать! Родной вы наш человек!
Одна женщина подошла к нему с подарком, небольшой коробочкой:
— Возьмите, пожалуйста, это самое мое дорогое.
— Ну что вы, я не могу.
— Я требую, чтобы это было у вас!
— Ну хорошо. — Он, смущаясь, открыл коробочку и чуть не отшатнулся, словно ошпаренный.
Серый ноздреватый брусочек, весь иссохший, но без единой плесненки. Незримова насквозь пробила слеза. Не выкатившись из глаз, она прошла через его горло в сердце и куда-то дальше, в глубокий колодец души.
— Это... Те самые сто двадцать пять грамм?
— Те самые, берите и храните их, — сказала блокадница и, утирая слезу, отошла от него, а он, глядя ей вслед, бережно опустил ценнейший подарок в карман.
Читать дальше