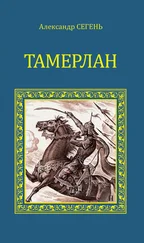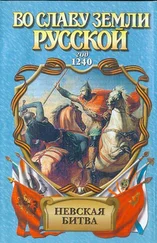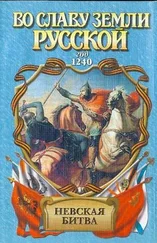Александр Сегень - Эолова Арфа
Здесь есть возможность читать онлайн «Александр Сегень - Эолова Арфа» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2021, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Эолова Арфа
- Автор:
- Жанр:
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Эолова Арфа: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Эолова Арфа»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Эолова Арфа — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Эолова Арфа», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— Они говорят, что твой фильм по-настоящему бунтарский, в нем любовь как стрела, пронзающая обыденное представление о блокаде Ленинграда. В которой якобы не было места для любви. И еще что эта любовь — мятеж, потому что герой должен был хранить верность жене, но это тоска зеленая — хранить верность жене. Тут я не согласна. Плохой жене — да, а хорошей, то есть мне, хранить верность обязательно. А это пан Гавел говорит, что нам надо срочно посмотреть новый фильм пана Формана, потому что это настоящее бунтарское кино, и все кругом ругают его. Выискивают аллегории.
В тот же вечер Форман и Гавел потащили Эола и Арфу в какой-то полуподпольный клуб, где собралась пьяная орава, и стали смотреть расхваленный Гавелом фильм Формана «Гори, моя паненка». Сквозь пелену опьянения Незримов пытался вникнуть в это балаганное зриво, находил в нем куда больше идиотства, нежели мятежной крамолы, о которой только и чирикали все вокруг. Пожарные устраивают бал в честь своего старейшины, приготовили ему в подарок искусно украшенный топорик, затеяли лотерею всевозможных яств, напитков, кукол и прочего, пытаются устроить конкурс местных красоток.
— Какие эти чешки все толстые, — влажно смеялась Арфа в ухо Эолу. — Точь-в-точь как твоя. Теперь-то видно, что она тоже чешка.
— А вон та не толстая.
— А вон та жиртрест, и та, и та, и та вон. И не только в этом кинце, а везде — на улицах, в ресторанах и кафе, сколько толстопопии! Разжирела Прага под советским крылышком.
— Хорошо, согласен, дай посмотреть, где тут крамола.
И он пытался дальше высмотреть причины того, что картину Формана запретило чешское киноначальство. На балу пожарных все в лоскуты, и начинается бедлам, призы разворовывают, конкурс красоты срывается, потом горит соседний дом... Персонажи карикатурные и нарочито неприятные, глупые, вороватые. И даже будучи пьяным, Эол разглядел в фильме какой-то политический заказ, кто-то политически поддерживал этого Формана, раздувал из него борца против тоталитаризма, а это нетрудно, достаточно снять какую-нибудь подобную придурь — и вот уже в тебе отыщут мятежника, вон они и в «Голоде» нашли бунт против существующих стереотипов. И ему захотелось пойти напролом, защитить искусство от политиканства. Старичок погорелец лег под одеяло в своей кровати, поставленной неподалеку от пепелища, пошел снег, заалела надпись «Konec», и Незримов громко воскликнул:
— Да здравствует свободное кино!
— Длуго жит здарма кино! — тотчас закричал кто-то, переведя его фразу, и все завопили, бросились обнимать Незримова, Формана, качать обоих, будто они вместе сняли эту балаганщину, и напрасно Эол пытался сопротивляться:
— Свободное от политики! Долой политизацию искусства!
Его уже никто не слышал, все увидели в нем единомышленника в борьбе против коммунистической системы, такого же диссидента, как большинство из них. Началась бешеная попойка, столь же безобразная, как бал пожарных, мужики тискали баб, многие из которых отличались такой же полнотелостью, как в фильме Формана, Вероника Новак тут пришлась бы ко двору, все гоготали, орали:
— Долу с цензуроу! Длуго жит здарма Ческа! Социализмус с лидскоу тваржи! Форман е гениални!
— Валим отсюда, — сказал Эол, и они с Арфой тихой сапой улизнули.
Когда вышли на ночную улицу, она сказала:
— Как там было душно! Как хорошо, что ты предложил сбежать!
— Я им кричал, что кино должно быть свободным от политики, а они меня не так поняли, не услышали.
— Я услышала. Ты молодец. И ты прав. Глупое кино, а они в нем видят призыв к свободе.
Они брели наугад, вошли в сады Кински.
— Стояла ночь, луной был полон сад, — выдохнул он из себя затхлость просмотренного фильма, и они стали жадно целоваться, как школьники, которым это до сих пор запрещали.
Над прудом соловей щелкал за милую душу, отстегивая одну трель за другой, швыряя их в ночную прохладу. Эол и Арфа брели наугад, то трезвея, то вновь пьянея, поминутно целуясь, уселись на скамейку и на ней уснули, а проснулись на рассвете и, покинув сад, вышли к Карлову мосту.
— Как хорошо дышится, — сказала Арфа.
— Это и есть воздух свободы, а не то, что они думают, — добавил Эол.
Она рассмеялась и запела своим удивительным голосом:
— Сто тысяч улыбок ты мне подарила, и я не забуду хороших минут. Рассветная Прага, красавица Прага, тебя золотою недаром зовут.
В следующие дни Вавра возил их на своей элегантной «татре» представительского класса, красный низ, белый верх, в Карловы Вары пить водичку, в Пльзень — пить пльзеньское, в Будеёвице — пить «Будвайзер», закусывая солеными печеньями в виде знаменитых местных карандашей «Кохинур», в Моравию — пить мускаты и рислинги, в Богемию — пить местный брют. Вавра доказывал, что в Чехии живется великолепно, если жить честно, то не о чем и мечтать, а про Формана и Гавела сказал, что от них лучше держаться подальше, они учились в Подебрадах вместе с братьями Машин, дружили с ними и, скорее всего, по сю пору держат связь с этими выродками, сбежавшими из страны, чтобы готовить вторжение НАТО в Чехословакию, а сейчас, видите ли, даже разочаровались в Америке из-за того, что она не хочет начинать Третью мировую войну и заваливать СССР ядерными бомбами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Эолова Арфа»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Эолова Арфа» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Эолова Арфа» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.