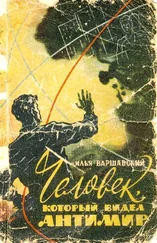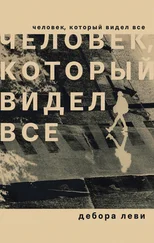– Ну да, – сказала она. – Это было много лет назад.
– Ты никогда меня не спрашивала.
– Не спрашивала о чем, Сол?
– Не против ли я.
– Против чего?
– Где Райнер?
– Знаешь, ты ведь не единственный его пациент.
– Мне нужно узнать, что случилось с Луной.
– Кто это – Луна?
– Сестра Вальтера.
– А вот и Райнер. – Она помахала врачу и направилась к нему.
Я видел, как он прикоснулся к ее руке. Невозможно было поверить, что мне пятьдесят шесть. Но то, что Дженнифер пятьдесят один, я допускал, хотя до сих пор и не видел ее лица. Она сильно изменилась: располнела, и одежда на ней теперь была другая. Человек, лежавший на соседней койке, попросил у нее автограф. И она, будто какая-то знаменитость, расписалась на его загипсованной ноге. Впрочем, так часто делали и обычные люди. Правда, когда она шариковой ручкой нарисовала там козу или что-то вроде, мужчина сказал, что сохранит гипс после того, как его срежут, потому что этот рисунок стоит больше, чем вся его квартира. Платье ее было сшито из какой-то тонкой материи в мелкий горошек. Юная Дженнифер ни за что бы такое не надела.
Позже сосед показал мне, что она написала.
Пускай стоит покрепче.
Д.М.
– Откуда вы знаете Дженнифер Моро?
– Она моя девушка.
Он расхохотался было, но быстро подавил смех.
– Тут к вам по вечерам один человек заходит. Говорит, его зовут Вольфганг. Все хочет поговорить с вами, но вы каждый раз уже спите.
Долгими бессонными ночами в больнице, среди сдавленных стонов и приглушенных голосов соседей по палате, я думал о космонавте с барельефа на стене высотного здания в Берлине. О том, кто летел сквозь пространство и время в окружении птиц и планет.
Однако ночи на Юстон-роуд отчего-то забрасывали меня не в ГДР времен моей юности, а в Америку. Лондонские офисные клерки надирались пивом в пабах, а у меня в палате волны разбивались о песчаные дюны пляжа Маркони. Окружавшие меня пациенты похрапывали или звали сестер, а мне виделось, как океан вливается в окутанные сумраком коридоры больницы. Под окнами с грохотом проезжал мусоровоз, а я в одиночестве стоял у кромки воды. Глядел на резвившихся в океане тюленей и белевший в отдалении маяк. Это место отчего-то навевало на меня жуть, хотелось поскорее перебраться куда-нибудь вслед за чайками и планетами. Так я и делал, но оказывался не слишком далеко, может, в паре миль вниз по побережью. Пруды, деревянные домики, забегаловки, где торгуют лобстерами. Дженнифер идет по тропинке мимо солончаков. Это Уэлфлит, Новая Англия. И снова Дженнифер – лежит ничком среди высоких камышей. Затем рассвет. И она стоит на крыльце, обессиленно привалившись к двери деревянного домика, и безутешно плачет. И я знаю, что там, за дверью, остались все ее стойкость и мужество. В саду цветет вишня. Налетает ветер, и лепестки розовым дождем летят сквозь вселенную.
Иногда вечерами возле моей кровати появлялся человек, который меня сбил. Маячил призраком вины и раскаяния. Я узнал его по странным, подрагивающим в уголках векам. Ему явно было неловко, и отчего-то мне казалось, что причина в том предмете, который я подобрал на дороге.
– Вольфганг, уходите, – прошептал я. – И на этот раз не забудьте проверить тормоза.
Но он явно был настроен поболтать. Почему-то заговорил о Рождестве. Рассказал мне, что его родители были родом из Австрии, из местечка Шпиц в долине Вахау. До аэропорта Вены оттуда на машине ровно девятнадцать минут. Это винодельческий район. Виноградники. Маленькие деревушки. Старинный монастырь. Дунай. Они с мужем, – продолжал Вольфганг, – все рождественские украшения там покупают, даже маленькие шоколадные бутылочки с киршем, которые нужно вешать на елку. Однажды на ярмарке они купили фигурку козы из соломы. В канун Рождества на нее полагается вешать виноградины. А после они высыхают и превращаются в изюм. Еще у него есть сводный брат. Он родился в Бухаресте, но сейчас живет в Цюрихе.
– Значит, у вас есть муж?
– Да, есть.
Вольфганг сообщил мне, что Лондонский аэропорт сегодня закрыт. Из Темзы выловили бомбу, не разорвавшуюся со времен Второй мировой. Водить ему теперь нельзя, поэтому ко мне в больницу он добирался на поезде и на метро. Тут неподалеку станция Уоррен-стрит. Это линия Виктории, на карте она обозначена бледно-голубым. Как по мне, этот цвет был чересчур жизнерадостным, но, кроме Вольфганга, я об этом никому не сказал. Просто протянул руку и попытался поймать лепесток вишни, занесенный в больницу американским ветром.
Читать дальше
![Дебора Леви Человек, который видел все [litres] обложка книги](/books/433335/debora-levi-chelovek-kotoryj-videl-vse-litres-cover.webp)