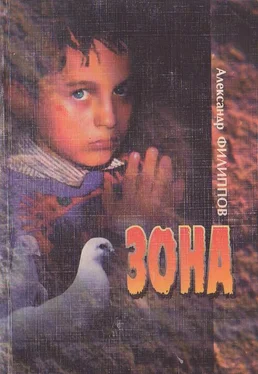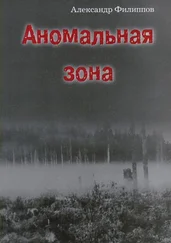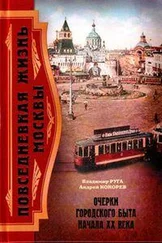Я знал только одну песню, которую в те годы часто пели взрослые, и закричал, путая слова и мотив:
— Вот кто-то с горочки спустился! Наверно милый мой! Идет! — я пел, выкрикивая каждое слово, а потом, внезапно для себя, заплакал горько и безутешно…
Когда я пошел в первый класс, бабушка учила меня писать. Палочки и кружки в моих тетрадях получались кривые, закруглялись не в ту сторону, а «нажим» я осторожно, высунув язык и капая чернилами, подрисовывал отдельно.
Мама была строга.
— Что это за писанина! — ругалась она. — Как курица лапой нацарапала! Перепиши, — и я переписывал снова и снова, выдирая из тетради испорченные кляксами листы и вставляя новые, — вырабатывал почерк.
Бабушка жалела меня и украдкой от мамы предлагала:
— Давай я карандашом тоненько-тоненько напишу, а ты обведешь.
Она выводила в моей тетради буквы карандашом, а я обводил их чернилами. Бабушкин почерк — округлый, взрослый, выдавал нас, и по чистописанию оценки мои оставались не выше тройки. Зато я так и остался на всю жизнь с бабушкиным почерком…
Мы жили тогда на окраине города, и прямо за нашим домом начиналась глухая оренбургская степь. Зимние вечера были длинны и унылы, а светлый месяц глядел в нашу комнатку сквозь черную лунку в оттаявшем окне грустно и пристально…
И кажется это до того недавним, близким, и так хорошо я помню эти вечера, что испугался вдруг сейчас…
Потому что было в ту пору бабушке моей всего пятьдесят лет, а маме столько же, сколько теперь мне…
«Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет.
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет…»
— пела мама, и мне представлялось, что это я иду, спускаюсь с пригорка к нашему домику на окраине, большой и сильный, с погонами и орденом… но когда я вырос и вернулся домой в «защитной гимнастерке», правда, без ордена, — бабушку мою уже схоронили…
О том, что тебя не стало на свете, узнал я случайно, из пустого разговора с полузабытым приятелем. Среди других: «а помнишь?», он сообщил, между прочим, что ты еще год назад попал под машину где-то в районе колхозного рынка и, надо же, исчез навсегда, и для всех умер. Я, в общем-то, и не огорчился даже, потому что едва смог вспомнить, о ком шла речь, и лишь потому, что сверстники наши умирают пока редко, не настала еще пора, только-только обжились вроде, сшибли острые углы и притихли закругленно, как валуны в быстрой речке, вспомнил тебя, и мелькнула секундная жалость. Дежурная, готовенькая на такие вот случаи жизни, и, если бы приятель сказал, что умерла его бабушка или соседка, пожалел так же, привычно и равнодушно: «надо же…»
Пришло время, и случилось мне в летний вечер, когда накатившие вдруг неведомо откуда холодные ветры качали шумящие деревья, а ночь была особенно черна и тревожна, смотреть в окно, покуривая и маясь бессонницей. И вдруг произошло так, что ты пришел ко мне, постучал громко веткой мятущегося тополя в оконное стекло, и я узнал тебя сразу и пустил в свою память. Я вспомнил тебя мгновенно, без всякой связи с мыслями своими и нынешней жизнью.
Я вспомнил — и очутился в громадной, действительно бескрайней, синей от сумерек, пронизанной ветром степи, где трава была холодной, зябкой, несмотря на лето, и накрапывал дождь. Бог весть зачем пошли мы с тобой, два карапуза, в степь так далеко от дома. Было нам лет по пять-шесть в ту пору, и не то чтобы заблудились мы, нет, ясно различался далеко-далеко на холме наш поселок, где золотились уже огоньки окон и веяло теплом и домашним уютом. Просто мы сильно устали, целый день пробродив под жарким июльским солнцем, а когда к вечеру похолодало вдруг, набежали тучи, стало быстро темнеть, и звезды, едва вспыхнув, гасли, а солнце размазалось мутно на леденисто-зеленом западе, мы выбились из сил.
Дождь зачастил, и я отдал тебе свою фуражку, потому что ты был острижен наголо, и мне стало жалко тебя, а ты предложил построить травяной дом. Отчего-то затея эта показалась единственноправильной, спасительной, и мы принялись рвать охапки мокрой полыни, осыпающей нас сизой трухой. Стебли травы были крепкие, хрупнув, не ломались до конца, и сырая ладонь скользила, сдирая с них липкий налет, полынная горечь уже была на губах, но мы драли тугие живучие корни вместе с землей, бросали их во влажную кучу, пытаясь выложить что-то вроде стен, а до поселка было километра полтора, и потому мы строили травяной дом.
Конечно, из этой затеи ничего не вышло, и, покопошившись в горькой траве, мы промерзли в своих рубашонках и коротких волглых штанишках, а потом вдруг, не сговариваясь, припустились по ровной, мягкой дороге, теплой от прибитой дождем пыли, молотили голыми пятками упругую землю, и через десять минут были дома, в своих настоящих домах, под настоящими, а не травяными стенами и крышами…
Читать дальше