Кто знает, что было причиной этого непостижимого благодушия. Может, усталость от суровости времен военного коммунизма, когда за кражу с лотка на базаре или карманную кражу в трамвае могли поставить к стенке. Возможно, надо было рассеять укоренившееся убеждение, как у нас, так и за границей о невероятной свирепости большевиков. Немалое значение имела, наверное, и действительная вера в возможность воздействия на преступную психику мерами убеждения и просвещения. Всего вероятнее, что эти факторы действовали одновременно.
Но благими намерениями вымощена дорога в ад. Во времена НЭПа и в непосредственно последующие годы преступность, особенно мелкая, расцвела пышным цветом. Воры чувствовали себя почти безнаказанными — подумаешь, несколько месяцев ДОП Ра, а общество от них не огражденным. Дело кончилось разворотом в сторону неслыханно жестокой карательной практики, которая, как это ни парадоксально, привела к новому росту преступности. Судебная свирепость сменилась новым периодом благодушия, за которым последовало очередное ожесточение. Кое-кто из ученых юристов именуют этот процесс закономерным, на манер приливных и отливных течений, другие — шараханьем из одной крайности в другую.
Даже в эпоху наибольшего либерализма по отношению к уголовным преступникам среди них находились такие, которые не извлекли для себя из этого либерализма никакой пользы. Это были, главным образом, те, кто считал себя вступившим в конфликт со всем обществом и его установлениями. К их числу, сразу же после первого своего осуждения, причислил себя и Геннадий Живцов.
Начало отчуждения человека от общества и враждебности к нему бывает разным. У Живцова это осознанное отчуждение началось с момента, когда он почувствовал на себе злые и враждебные взгляды сотен людей, сидевших в зале суда. И он понял, что тоже ненавидит их. Собственно, это было лишь кристаллизацией чувства к обществу, которое, хотя и смутно, он испытывал и раньше, даже когда еще только обдумывал, а не совершал свои преступления. Вместе с желанием причинить кому-то зло обычно зарождается ненависть к жертве, которая укрепляется окончательно, когда это зло причинено. Предметом подобной ненависти могут быть и отдельные лица, и группы людей, и общество в целом. В последнем случае может возникнуть почти маниакальное стремление не подчиняться законам и установлениям этого общества. И не потому, что это несет какую-то выгоду для преступившего их, а только потому, что дает ему ощущение противопоставления себя этим законам. Начинается война между человеком и обществом, в которой репрессии по отношению к нему, призванные сломать его «злую волю», обычно только усиливают его ожесточение. Иногда это происходит под знаком фанатической приверженности религиозному или политическому учению. Тогда рождаются герои и мученики.
Живцову в этом смысле не повезло, и он стал изгоем и отверженным в обществе во имя самого этого изгойства и отверженности. Он принадлежал к той очень небольшой части уголовных преступников-рецидивистов, которые огромный заряд своей внутренней энергии растрачивают либо на холостые выстрелы, либо на стрельбу по несоразмерно мелким целям.
Угодив в ДОПР, Живцов и не подумал с помощью элементарно благонравного поведения сократить себе срок, после чего войти в русло нормальной жизни. После года заключения он бежал из тюрьмы, подбив на совместный побег еще двоих молодых правонарушителей. Втроем они занялись уличными грабежами, на этот раз без всяких фокусов с колотушками и другими необычными приемами. С практической точки зрения это было оправдано только в начале «незаконной воли» беглецов, когда надо было сменить одежду и приобрести деньги на дорогу подальше от своего города. До введения паспортной системы было еще далеко, и околачиваться на воле, не совершая особо тяжких преступлений, они могли бы довольно долго. Но лихая троица «брала на прихват» запоздалых прохожих в темных переулках, пока недели через две не была поймана. Последовали новые десять лет той же «строгой изоляции», но уже с соответствующей пометкой в деле. Живцов, он же Тимофеев, поскольку при аресте им был предъявлен отнятый у кого-то документ, был вывезен в один из дальних старинных Централов, в которых содержались преступники-рецидивисты. Убежать отсюда было непросто, и «Чума» — такое прозвище теперь носил Живцов-Тимофеев — употребил свою мрачную энергию на войну с тюремными «суками» и «наседками». По подозрению в убийстве одного из них Чума довольно долго сидел в одиночке. Однако доказать, что задушил своего соседа по камере именно он, не удалось, и следствие по этому делу было прекращено. Но с тех пор тюремное прозвище Живцова сменилось на другое — «Хана сукам», которое скоро сократилось до просто «Хана». В тюремных камерах он стал одним из признанных центровиков.
Читать дальше
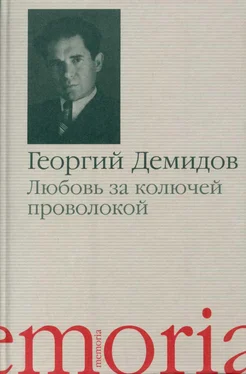
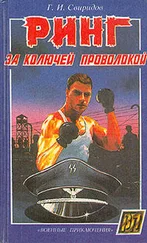
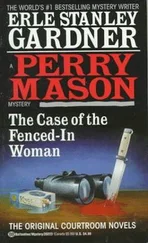


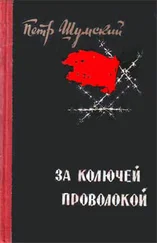
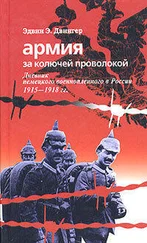
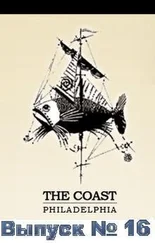
![Георгий Демидов - Чудная планета [Рассказы]](/books/419029/georgij-demidov-chudnaya-planeta-rasskazy-thumb.webp)