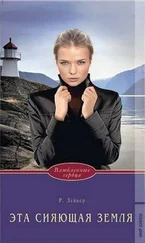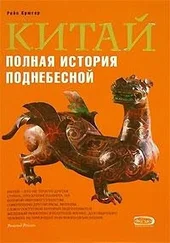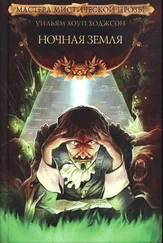Мы доставили последнюю газету, и на востоке показался слабый намек на рассвет, когда нас остановил хриплый голос. Мы замерли под уличным фонарем, и из тени раскидистого вяза вышел рослый коп.
– Вы что тут делаете, хулиганы?
– Разносим газеты, – ответил Джон Келли.
– Да? И где они?
– Закончились. Мы идем домой.
– Если ты разносчик газет, где твоя сумка?
– Забыл. Слишком волнительная ночь. Пару часов назад ма родила мне нового брата.
– Да? Как назвали?
– Еще не знаю. Мне пришлось уйти до того, как ма решила.
– Как тебя зовут, мальчик?
– Джон Келли.
– А тебя? – спросил коп, дернув острым подбородком в мою сторону.
– Бак Джонс.
– Как киноактера, а?
– Да, сэр. Моя ма вроде как вздыхает по нему.
– Он не такой, – сказал коп. – Все они не такие, мальчик. Где живешь? – спросил он Джона Келли.
– Коннемара-Пэч.
– Тогда ладно. Проваливайте. Не задерживайтесь.
– Коннемара-Пэч? – спросил я, когда мы отошли подальше от копа.
– Там живет много ирландцев. – Он оглянулся через плечо. – Если бы я сказал ему, что меня зовут Шломо Гольдштейн из Западной Низины, мы оба были бы уже в синяках.
Мы расстались на Фэйрфилд-авеню, уже начавшей заполняться тележками, лошадьми и усталыми мужчинами, бредущими на ранние смены. Им посчастливилось иметь работу.
– Что делаешь днем, Бак? – спросил Джон Келли.
– Наверное, ничего.
– Не ничего. Займешься кое-чем со мной, – сказал он с дьявольским огоньком в глазах. – Я зайду за тобой.
Он ушел, насвистывая, засунув руки в карманы выцветших штанов. Старший брат. Глава семьи. Мой новый лучший друг.
Когда я вернулся к Герти, запах еды привел меня на кухню. Фло у большой плиты жарила бекон и яйца на чугунной сковороде. Она подняла голову, убрала с лица выбившуюся длинную светлую прядь и сказала:
– Герти рассказала мне про ночь. Это было что-то.
Я не хотел рассказывать ей, как тяжело было час за часом слушать крики матери Джона Келли, пока она рожала ребенка.
– Ты помог Шломо с газетами?
– Все сделано.
– Тогда ты, должно быть, голоден.
– Я в порядке.
По правде сказать, я готов был съесть слона, но не хотел забирать завтрак Фло.
– Глупости. Я просто добавлю бекона и разобью еще одно яйцо. Хочешь тост? Ты пьешь кофе?
Мы поели вдвоем за столом, по-семейному.
– Где Герти? – спросил я.
– Понесла Гольдштейнам блинчики.
– Блинчики?
– Это что-то вроде еврейских оладий, с начинкой и завернутые в трубочку.
Некоторые из тех, кому мой отец доставлял самогон, были евреями, но я мало понимал, что это значит.
– Все в Низине евреи?
– Не прям все.
– Значит, вы с Герти евреи?
– Я нет. Закоренелая католичка. Если спросить Герти, еврейка ли она, она, наверное, скажет нет.
– Она перестала быть еврейкой?
– Не думаю, что можно просто перестать быть кем-то. Она больше не ходит в синагогу.
– В синагогу?
– Это как церковь для евреев.
– Вы все еще ходите в церковь?
– Иногда.
– Вы не отказались от своей веры?
– У тебя много вопросов. А сам ты верующий, Бак? От этого все твои вопросы?
– Верующий?
Я задумался над словом. На тот момент религия для меня воплощалась в лицемерных воскресных службах Брикманов. Они рисовали Бога как пастыря, который присматривает за своим стадом. Но как снова и снова горько напоминал мне Альберт, их Бог был пастырем, который ест своих овец. Даже любящий Бог, в которого так глубоко верила сестра Ив, не раз бросал меня. Я решил, что не верю в одного бога. Я верил во многих, они постоянно воевали друг с другом, и, похоже, в последнее время перевес был на стороне Бога Торнадо.
– Нет, – сказал я наконец. – Я не верующий.
Потом вернулась Герти.
– Я только что видела Шломо, – сказала она. – Он выглядел очень уставшим. Ты тоже выглядишь так, будто тебе не помешает хорошенько выспаться. Когда поешь, иди поспи. Не волнуйся насчет помощи с завтраком. Мы прекрасно справимся без тебя.
– Тебе тоже не помешает поспать, – сказала Фло.
– Потом, – отмахнулась Герти.
Я отнес тарелку и вилку в раковину, помыл их, а когда вернулся, с удивлением наблюдал, как Фло обняла Герти, ласково прижала к себе и поцеловала, долго и с любовью.
Мы вдыхаем любовь и выдыхаем ее. Это основа нашего существования, эфир наших душ. Лежа на койке в старом сарае за домом Герти, я думал о двух женщинах и размышлял над природой привязанности, свидетелем которой стал. Фло была прекрасным цветком, Герти – суровой мамой-барсучихой, и я пытался понять любовь, которую они испытывали друг к другу. Я не знал, что женщина может любить женщину так же, как я любил Мэйбет Шофилд. С каждым поворотом реки после побега из Линкольнской школы мир становился шире, его тайны сложнее, а возможности – бесконечными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу