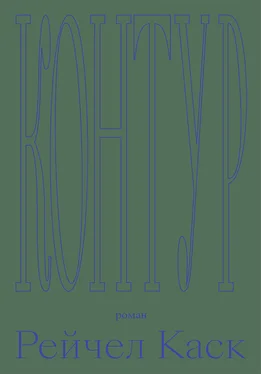Но я выбрал его специально для тебя, сказал Панайотис, выпучив глаза. Шеф-повар из твоего родного города, Ангелики, в меню есть твои любимые балтийские блюда. Пожалуйста, извини его, сказала Ангелики, положив ладонь с накрашенными ногтями мне на руку. Затем она обрушила на Панайотиса быструю тираду на греческом, после чего тот вышел из-за стола и направился в сторону туалетов.
Прошу прощения, что не смогла прийти раньше, запыхавшись, сказала Ангелики. Мне нужно было посетить одно мероприятие, а после него заехать домой и уложить сына спать — я в последнее время мало с ним вижусь из-за турне со своей книгой. Я ездила в Польшу, продолжила она прежде, чем я успела задать вопрос, в основном была в Варшаве, но и в других городах тоже. Она спросила, бывала ли я в Польше; я ответила, что нет, и она грустно покивала головой. Польские издатели не могут позволить себе приглашать много авторов, сказала она, и это печально, потому что там людям нужны писатели, совсем не то, что тут. За прошлый год, продолжала она, я побывала во многих местах в первый раз, или в первый раз самостоятельно, но турне по Польше оставило у меня самое сильное впечатление. Благодаря ему я увидела свои книги не как развлекательное чтиво для среднего класса, но как что-то жизненно важное, как спасительную соломинку для людей — по большей части, надо признать, для женщин, — которым очень одиноко в своей повседневности.
Ангелики взяла графин и меланхолично плеснула себе каплю вина, а затем наполнила мой бокал почти до краев.
— Мой муж — дипломат, — сказала она, — и мы, как ты понимаешь, много ездим по миру в связи с его работой. Но совсем другое дело — когда едешь куда-то одна по своей работе. Признаю, мне бывало страшно, даже в знакомых местах. А в Польше я ужасно нервничала, потому что там мне было чуждо почти всё, особенно язык. Но часть моих изначальных страхов объяснялась просто: я не привыкла к самостоятельности. Например, — продолжала она, — мы жили в Берлине шесть лет, но даже он мне показался незнакомым городом, когда я приехала туда одна, в качестве писательницы. Отчасти дело в том, что я увидела другую его сторону — литературный мир, до сих пор мне абсолютно неведомый, — а еще отчасти потому, что без мужа я совершенно по-иному ощутила, кто я такая.
Я ответила ей, что не знаю, возможно ли вообще в браке знать, кто ты такой, и отделять себя прежнего от того, кем ты стал рядом с другим человеком. Возможно, идея «настоящего» сама по себе иллюзорна: иными словами, можно чувствовать, что внутри тебя есть отдельная, автономная личность, но существует ли она на самом деле — это вопрос. Моя мать, сказала я, однажды призналась, что не могла дождаться, когда же мы наконец уедем на учебу, а когда мы уезжали, то не знала, куда себя деть, и хотела, чтобы мы вернулись. Даже сейчас, когда мы, взрослые дети, задерживаемся у нее в гостях, она настойчиво нас выпроваживает, как будто иначе случится что-то ужасное. Однако я уверена, что после нашего ухода она испытывает то же чувство потери и гадает, чего же она хотела и зачем гнала нас. Ангелики начала рыться в своей элегантной серебряной сумочке и достала из нее блокнот и карандаш.
— Прошу прощения, — сказала она, — но мне нужно это записать.
Какое-то время она писала, а потом подняла глаза и спросила:
— Можешь повторить вторую часть?
Я отметила, что блокнот, как и всё в ее внешности, выглядит очень аккуратно: страницы его исписаны ровными, прилежными строчками. Карандаш у нее был тоже серебряный, с выдвижным грифелем, который она с силой вкрутила обратно в корпус. Закончив, она сказала:
— Должна признать, меня поразил прием в Польше — правда, очень удивил. Судя по всему, польские женщины крайне политизированы. Моя аудитория на девяносто процентов состояла из женщин, и они очень активно высказывали свое мнение. Конечно, гречанки тоже активные…
— Но одеваются лучше, — закончил вернувшийся Панайотис. К моему удивлению, Ангелики отнеслась к этой реплике серьезно.
— Да, — сказала она, — греческим женщинам нравится выглядеть красиво. Но в Польше я ощутила, что в этом наш недостаток. Женщины там очень бледные и серьезные, у них широкие, плоские, холодные лица, хотя кожа обычно плохая — вероятно, из-за погоды и питания, и это ужасно. Зубы у них тоже оставляют желать лучшего, — добавила она, слегка скривившись. — Но я позавидовала их серьезности: они как будто не отвлекаются, никогда не отвлекались от жизненной реальности. Я много времени в Варшаве провела с одной журналисткой, — продолжала она, — примерно моего возраста, тоже матерью, и она была такая тонкая и плоская, что мне с трудом верилось, что она вообще женщина. У нее были длинные прямые волосы мышиного цвета, спускавшиеся по спине, а лицо белое и угловатое, как айсберг. Она носила широкие рабочие джинсы и огромные неуклюжие ботинки и была чиста, резка и красива, словно кусочек льда. Они с мужем строго чередовали свои обязанности каждые полгода: один работает, другой сидит с детьми. Иногда он проявлял недовольство, но до сих пор придерживался договоренности. Она с гордостью призналась мне, что, когда она уходит на работу, дети спят с ее фотографией под подушкой. Я засмеялась, — сказала Ангелики, — и ответила, что мой сын скорее умрет, чем его застукают с моей фотографией под подушкой. Ольга посмотрела на меня так, что я вдруг задумалась, не заразили ли мы даже детей цинизмом нашей гендерной политики.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу