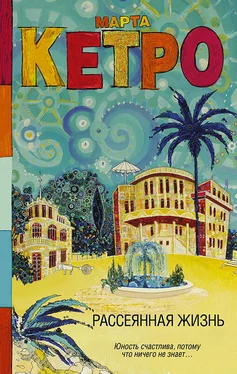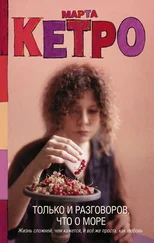Ты же помнишь меня прямоволосой, и пишу тебе я, прежняя, тому, каким ты был в январе, в самый тяжёлый год из всех моих, не считая того, когда мама умерла, а я переехала.
Я опять уезжаю, а ведь почти прижилась. Научилась печь пирожки, поверишь ли. Мама однажды сказала: «Тесто наощупь должно быть как женская грудь», и более никаких рецептов не оставила, но мне, ты знаешь, хватило — каждая женщина учит дочь всего одной вещи, и мне с моей повезло.
Недавно вдохнула ночной воздух, а он горячий. Пришёл хамсин, весна закончилась, вот где горе. После Песаха дождей не жди, Кинерет в этом году не наполнился, а ведь осталось всего полметра. Бедное озеро с пресной водой, жители пустыни вечно его вычерпывают до дна и всё время ждут, что однажды зимой оно всё же нальётся до краёв и тогда откроют дамбу Дгания, чтобы выпустить лишнее. Я надеялась, что это случится скоро, и кто-нибудь меня отвезёт смотреть на воду, которую ждали почти четверть века (последний раз она открылась в 1992 году). Вооот, а потом подумала-подумала, и знаешь что? да ну его нафиг. Плохой был год — ты уехал. Ну и прочее: гайдаровская реформа, когда цены взлетели, Югославию разорвало и многих убили, и в Карабахе столько людей погибло, совок весь переколбасило, Грузия воевала Абхазию, Приднестровье запылало, а главное, Марлен Дитрих умерла. Вдруг не к добру эта Дгания.
Я утром улетаю в Москву. В садике Сюзан Даляль цветут грейпфруты и густой сладкий запах накрывает белую площадь, где не будет меня. И на Бялик я не приду, не поздороваюсь с жёлтой рыбой, у которой тёмное пятно на боку. Но как окажусь в Москве, поеду на Арбат. Не сразу, не в первый день, но поеду обязательно, и пройду его весь, от Арбатской до Смоленки, мимо «Праги», мимо Театра Вахтангова и булочной, снова пройду насквозь, в самый последний раз. А возле аптеки оглянусь и, может быть, увижу нас.
Видишь, у меня большие планы и будущее определено — не этого ли я желала?
Не этого. Я желала никогда не стареть, любить тебя, иметь свой дом и оставаться тощей. Ничего не вышло, ничего.
Вышли, вот видишь, книги, буквы, в которых мы с тобой молоды и прекрасны, как два персонажа Китано — ты со своим мечом, и я твоя кукла с маленькими ступнями, которые помещались на ладонях. Помещаются и сейчас, но не на твоих, и никто из нас о том не жалеет.
Я надеюсь, душа моя, что ты себя помнишь. Меня — не нужно, обязательно помни себя, красивого, худого, любимого, весёлого и всем чужого. Хорошо бы ты остался таким ещё где-нибудь, кроме моей памяти, которая ненадёжна (хотя я всё записала).
С тех пор прошла целая жизнь, в которой я любила только буквы и город, на этот раз взаимно. От нас с тобою в ней не осталось ничего, даже мир, бывший для нас подложкой, рассыпался, иссохла трава — ложе наше, сгорели кипарисы и кедры — стены наши и кровля, шумные базары и площади городов наших опустели, и бесполезно спрашивать стражей, где возлюбленный мой — он в прошлом, и там, где была нефть по восемьдесят, теперь она по тридцать пять.
Поэтому, прощаясь, я тебя не целую, ухожу из твоего сна, нашептав на ухо песенку, из-за которой много плакала тогда, «Tears In Heaven». Проснёшься в слезах, знай, это мои.
Обнимаю длинными руками, ничего не бойся,
Ф.
P.S. Любила. Не забудь — я забыла, а ты помни: очень тебя любила».
Написала и не отправила.
* * *
Москва встретила Поль дождём, прекрасным, щедрым и прохладным, то есть скверной погодой, по местным меркам, но для неё идеальной. В Тель-Авиве уже наступила летняя сушь, и теперь Поль наслаждалась тяжёлыми каплями, мгновенно промочившими её насквозь.
В такси не отлипала от окна, Москва казалось великолепной, даже уродливые окраины были по-своему хороши, потому что просторны и огромны. На Калининском, который Поль так и не научилась называть Новым Арбатом, полыхало столько рекламных экранов, что они, кажется, перекрывали электрический бюджет всего Тель-Авива.
Её отельчик прятался во дворах на Садовом, и она шла, припадая к стенам, как бродячая кошка — всё здоровенное, жуткое и грохочет. Зато номер кошке бы понравился — крошечный до изумления, вмещающий только двуспальную кровать. Расположена она была примерно в метре от пола, так, что к ней вела приступка, где-то внизу ютился столик, и на этом номер заканчивался. Зато в нём имелся свой туалет с душем, вода из которого вытекала за дверь, пропитывая ковролин.
А самая главная фишка номера — голубой потолок, расписанный белыми облаками и ангелами, в центре которого зачем-то прорезали маленькое окно. Поль потратила некоторое время, пытаясь сообразить, чем в конструкции дома вызваны эти архитектурные извращения, не говоря о дизайне, но так и не придумала. И только ночью, когда улеглась на чудовищное ложе, поняла, что находится внутри «секретика». В детстве девчонки делали ямки, выстилали их журнальными страницами с картинками и складывали туда что-нибудь ценное — осколки зеркальца, красивые камешки, хрустальную пробку от графина. Сверху ямку закрывали большим куском стекла, который ещё пойди найди, и засыпали землёй, но так, чтобы оставалось окошко, сквозь которое можно заглянуть внутрь. И когда солнце удачно высвечивало «секретик», он сиял.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу