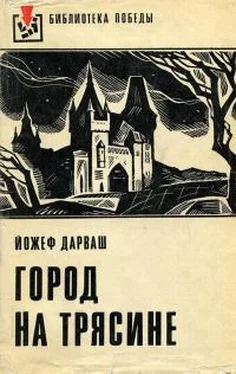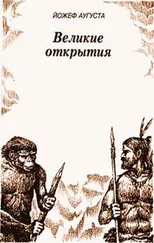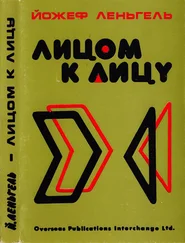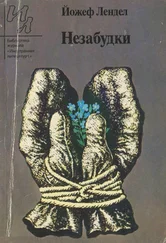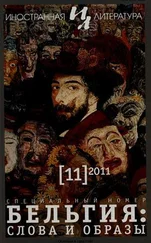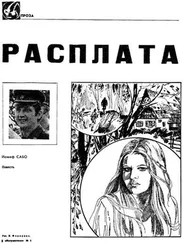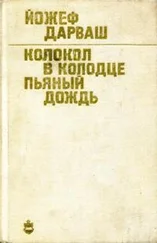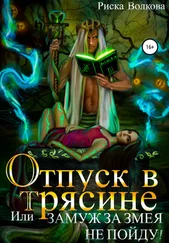Я уже писал выше, что попытки Салаши представить пришедшую к власти клику как истинных руководителей страны потерпели явную неудачу. Хмель первых дней у тех, кто не был нилашистом, но был настроен прогермански и готов был заключить союз против победоносной Красной Армии хоть с самим чертом, вскоре улетучился. Правда, нилашистская пропаганда сделала все, чтобы описанием «большевистских зверств», превзошедшим в своей фантазии сочинения низкопробных бульварных писак, оживить и подстегнуть боевой дух населения. Но теперь уже не действовали никакие пропагандистские инъекции. Сопровождаемая все усиливавшимся громом пушек, нилашистская пропаганда рождала не мужество и стойкость, не готовность сражаться, а лишь ноющее чувство страха, летаргию.
Воззвание от 15 октября хотя и не привело к переориентации армии, но все же повлекло некоторое разложение в армейских кругах. Уже в первые часы, последовавшие после воззвания, разбежались целые воинские части. Даже после приказа Салаши число дезертиров продолжало расти. После того как был отменен приказ о массовой мобилизации, Берегфи и его сторонники попытались пополнить ряды армии за счет добровольцев, но, несмотря ни на что, число тех, кто не подчинялся приказу, росло день ото дня. Салашисты пытались предотвратить распад армии обещаниями прощения и амнистии тем, кто вернется в свою часть, а затем был подписан драконовский приказ о борьбе с дезертирами — смерть грозила даже их семьям. Находились, правда, и такие, кого угрозы, скорее всего страх, удержали от дезертирства. Однако становилось все очевиднее, что остановить Красную Армию невозможно, и по мере того, как число приказов о призыве в армию увеличивалось, число дезертиров и лиц, избегавших призыва, росло.
Возникло чуть ли не серийное производство фальшивых документов, свидетельств о непригодности к военной службе, фальшивых солдатских книжек, чистых бланков приказов, отпускных свидетельств. Во время облав сотнями задерживали тех, кто, даже не имея документов, предпочел бегство, связанное с риском быть расстрелянным, бессмысленной войне. По улицам разгуливали тысячи людей, в карманах которых были целые коллекции фальшивых документов. Каждый третий человек был работником военного предприятия с правом брони или дружинником противовоздушной обороны. Число мясников, пекарей, бакалейщиков — они не подлежали призыву — настолько увеличилось, что казалось, будто в городе не осталось людей с другими профессиями.
В конце ноября нилашисты попытались организовать добровольную эвакуацию населения Будапешта. Незавидная судьба постигла воззвание нилашистов, в котором они пытались уговорить население столицы покинуть город и переселиться за Дунай. Были районы, в которых никто не отозвался на воззвание, в других же в списки добровольных переселенцев внесли свои имена не более двадцати — тридцати человек. Добрая часть представителей состоятельных слоев и без воззвания покинула город. На запад двигались колонны автомобилей с имуществом нилашистов и правых руководителей, но простой народ, даже если он и верил официальной пропаганде и боялся прихода русских, с места не трогался.
Пассивное сопротивление, таким образом, принимало большие размеры; на активное же сопротивление, которое могло стать единственным спасением от ужасов и лишних жертв, очень мало кто был готов. Лишь немногие верили в победу, в возможность отражения наступления Красной Армии. Имели место иллюзии другого рода: «Будапешт будет открытым городом!», «Немцы не будут удерживать Будапешт!», «В конце концов, мы только союзники Германии, которая даже по политическим мотивам не посмеет поставить под угрозу уничтожения полуторамиллионный город!». Многие верили столь наивным заверениям.
Несбыточные иллюзии и тщетные надежды, как правило, появляются тогда, когда не хватает смелости, чтобы действовать. Малодушие является обычной почвой для подобных настроений. Кто боится страданий, но боится и жертв, могущих предотвратить или уменьшить эти страдания, тот ударяется в пессимизм. Большинство населения Будапешта боялось судьбы Сталинграда, но в то же время не верило в то, что гитлеровцы устроят здесь решающую битву, пытаясь изменить ход войны. Каждый понимал (об этом предупреждали грохочущие поблизости пушки), что теперь речь идет о сохранении самой жизни. Но так как за жизнь нужно было сражаться, то большинство предпочло забыть, отмахнуться от сталинградского примера и слепо поверить в иллюзию: немцы не будут удерживать Будапешт!
Читать дальше