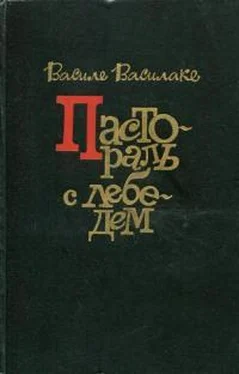Оставшись сами по себе — что им делать вдвоем? — конечно, вошли они в дом Надежды. А Кирикэ недолго думает, дает Серафиму кувшин вина — была осень, и на том берегу Прута гуси и те ходили пьяные — и просит Серафима:
— Только, ради бога, не зажигай света. А то придут парни из клуба или мама увидит, она у соседей.
Входит он, Серафим, в каса маре [4] Каса маре — горница.
. Темно, хоть глаз выколи, а дом мамы Надежды маленький, низенький, с узкими окнами. Видели вы когда-нибудь дом бедной деревенской вдовы?
И слышит Серафим, как закрывается дверь в сенях, слышит он это и слышит шепот:
— Поди и заложи задвижку.
— Это ты, Мария? — шепчет парень. — Кто здесь?
— Молчи, Серафим, садись… то есть нет, сначала дверь закрой на задвижку.
А голос откуда-то из глубины, оттуда примерно, где красный угол…
— Ох, — говорит Серафим, — тот наш разговор вечерний не попусту был, не даром. Смотри, как мы встретились! Говорила, что издалека ты… а я все думал: далеко ли это далёко?
И опять:
— Ох, откуда ты, Мария?
Молчание. Долгое молчание!.. Серафим ждет ответа, а вместо него — вопрос:
— Слышишь, как грызут короеды ставни?
А он рад, все-таки человеческий голос.
— Ну да, — отвечает Серафим, — как добро когда-то выгрызает зло…
— Ну и сказал! Что это за добро, ведь короеды — зло, а ставни — добро!
— Правильно, Мария. Так, Мария, но, понимаешь, для зла добро тоже зло.
И опять молчание, и опять — то ли подавленный вздох, то ли кто от смеха давится.
Встал Серафим и хочет подойти поближе.
— Нет, нет, Серафим, садись, — просит его девушка. — Сколько у тебя классов?
— А почему спрашиваешь?
— Потому что ты мог бы пойти далеко…
— Куда, Мария?
— Ни с места, ни с места…
— Я понял, Мария, правда, Мария: ты про мысли говоришь, так ведь?
Девушка есть девушка, и, если хорошо ей, зачем ей говорить «нет», и говорит она:
— Хорошо, Серафим… Серафим, а как еще тебя звать?
— Поноарэ, — отвечает парень, — только это мое прозвище… А так я Серафим.
— Кто был твоим отцом?
— Мама говорит, что мне не повезло с отцом, не застал я его…
— Может, отцу не повезло с тобой и он тебя не застал?
— Я говорю, что говорила мама, да простит ее бог…
— Да простит ее бог? А что она сделала?
— М-да… Люди так говорят, говорю и я.
— Бедный… Скажи, ты колхозник?
— Конечно. Надо быть, как все люди, говорила моя бедная мама, да будет ей земля пухом…
— А почему пухом? Она же теперь тоже земля, неужели хочешь, чтобы ее ветром развеяло?
— Не хочу, но люди так говорят.
— Бедные…
И опять темно, хоть глаз выколи, и слышно, как в глубине словно кто давится от смеха, и передвигается Серафим по лавке поближе к девушке.
— Постой, постой, Серафим… Вот ты помянул бога… Скажи, ты его любишь?
— Ох, Мария, любил я его одно время и верил я ему, а когда увидел, что он мне не доверяет, не снисходит до меня, что оставил меня сиротой…
— Бог не доверяет, милый, бог не снисходит, бог повелевает.
— Бедный, — вздыхает Серафим. — Видно, и он слуга, если живет повеленьями.
— Так, Серафим, молодец! И что ты думаешь делать теперь?
— Я не думаю, Мария, я делаю, что делается, и все. Теперь бы я женился. — И опять вздыхает. — А ты хочешь за меня пойти, хочешь стать моей женой?
— Зачем же я пришла! Знай, я уже твоя жена, Серафим, и дитя у нас будет месяца через три.
— Нет, — говорит Серафим, — как, — говорит Серафим, — шутишь? Ах, да, да, — говорит ей Серафим, — через сколько месяцев?
Девушка есть девушка, да и говорит она:
— Лучше ты мне скажи, Серафим, желал ты меня и как желал?
— Мария, если б ты знала, Мария… Очень, очень, как мать свою! Ведь рос я только с матерью, а теперь ее нет, как же мне по ней не тосковать? И сестер у меня не было, и хочу я теперь сестру. А как подумаю, что у нас в селе все женщины только жены, то говорю себе: я желаю Марию любовницей! Я ж тебе говорил: пока меня колхоз не перевез, я жил в поле и тогда все думал, думал, думал, пока не начинала вся Земля вращаться со мной. А потом еще, знаешь, видел тебя то черной в поле, то голой в церкви!..
— Это же скорбь, это стыд, это бедность! — прерывает его девушка. — Молчи, Серафим, пей, Серафим, пей и ешь, это тебе только и осталось. Это тебе только и полагается, а то прежде ты и сыт не был, и жажду не утолял, кроме как на рождество да на пасху. Пора пришла — пей и ешь и веселись-празднуй!..
Молчит Серафим. Слушает… «Эх, черт возьми, — думает он, — мало того, что красива, она еще и умна! И как ты теперь подойдешь со своей глупостью к ней? Ибо глупость с глупой делаешь, а мудрое с мудрой. Ведь так издревле принято или нет?»
Читать дальше