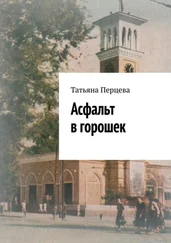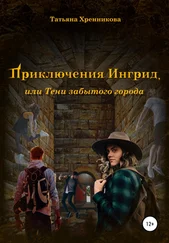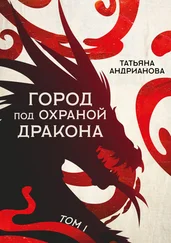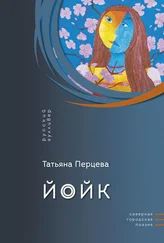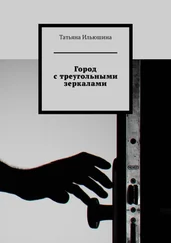И был еще один пласт — дворовой лексики.
Прежде всего — знаменитые «кетки», которые, по-моему, употребляются и сейчас, если судить по недавнему комменту о том, что пояса делали из кеток. Кетки — конфетные этикетки. Сколько я себя помню, столько и кетки. Сколько мне ни объясняла мама, что нет такого слова, — бесполезно. Кетки — они кетки и есть. В Ташкенте до сих пор так говорят. «Свистеть» означало «врать». Было еще одно слово, сейчас почти забытое: «хлюзда», «хлюздить». В том понимании это означало человека, который не хотел играть по правилам и если ему было невыгодно, прерывал игру и убегал. «Атас» и «атанда» — это «тревога, нужно линять». И то, что в России называлось «жостка» и «бабки», в Узбекистане было лянгой и ашичками. Даже у Маковского есть картина, где изображены мальчики, играющие в бабки. А лянга — это кусок меха, к коже которого приклеен плоский кусок свинца. Его подбрасывают ногами. И есть целый список приемов.
Интересно: играют ли сейчас в лянгу и ашички? Я не видела. И здесь тем более не видела.
Да, еще упомянули в одной книге про куликашки, которые назвали таинственной игрой. В Ташкенте куликашками называли прятки. Всего лишь.
Все проходит. И даже слова умирают. Хорошо, что не все.
Везло нам сказочно. Нынешним поколениям такого во сне не увидать. Впрочем… боюсь, им это и ни к чему. У них другие ценности. То, что раньше считалось немыслимым, сейчас вполне в порядке вещей. То, что раньше считалось мерзостью, сейчас — бренд и пик моды.
В какое время мы жили! Да в замечательное! Сколько прекрасного видели! Можно сказать, на нас горстями сыпалось золото с бриллиантами.
Говорят, к гробу багажник не прицепишь. Зато воспоминания унесешь. Даже в гроб.
При всех ужасах угнетения, эксплуатации, репрессий и прочих кошмарах Ташкент был воистину центром культуры. Как это ни странно, сюда приезжали великие люди, гениальные люди, знаменитые на весь мир люди со всех концов… даже не страны, а мира. Остается только гадать, что заставляло их ехать в ненавистный Советский Союз, оплот несвободы.
Остается только гадать, что заставляло жителей Ташкента расхватывать билеты, толкаться в очередях, заполнять проходы театральных и концертных залов, стоя смотреть весь концерт. Наверное, страх перед властями. Скоро напишут, что в театры сгоняли под дулами автоматов. И хуже всего, в это поверят.
Я до конца жизни буду счастлива, что собственными ушами слышала великих скрипачей Айзека Стерна, Давида Ойстраха, Бориса Гольдштейна, Эдуарда Грача. Беллу Давидович, мировую исполнительницу Шопена. Бенни Гудмана. Подумать только, где я и где Гудман. Слышала! Марино Марини слышала! Леокадию Масленникову. Боже, как она пела…
И Сергея Лемешева. И удивительное колоратурное сопрано Аллу Соленкову. Голос абсолютно немыслимой высоты. Когда она пела «Соловей» Алябьева, я всегда боялась, что голос у нее сорвется. Не срывался. И мрачные диковатые песни Имы Сумак. И оперные спектакли Большого в театре Навои. Я видела танцы Галии Измайловой и Бернары Кариевой. И видела, как дирижирует Вероника Дударова. И чего еще я только не видела и не слышала!
И да, я слышала знаменитый орган Ташкентской консерватории. Он был не в нынешнем, изуродованном новациями здании, а в том, старом. Прекрасном. Играл великий органист Гарри Гродберг.
Что заставляло тогда весь Ташкент собираться в театрах Навои, Свердлова, консерватории и киноконцертном зале ОДО, ныне недоступном и тоже опошленном так называемыми реставраторами?
Наверное, любовь к искусству. Истинному.
Тогда мне было совсем хорошо. Дружила я с дочерью директора ОДО. Ну и водила она меня на все концерты. Бесплатно!
А билеты в консерваторию стоили копейки. Да и в театр Навои тоже не тысячи. Мама помогала достать билеты на самые дефицитные концерты. А на некоторые, самые-самые, поклонники покупали стоячие билеты, и ничего. Зато что только мы не видели и не слышали.
Чудеса продолжались, даже когда я приехала в Москву. Ребенок маленький, куда-то подальше не выберешься, Дворца культуры тогда еще не было, приезжие знаменитости давали концерты в кинотеатре «Эра», ныне несуществующем. Там теперь поселился театр «Ведогонь». Заметьте, никто ничего не рушил, никто ничего не перекупал. Отдали театру. Билеты распространялись по предприятиям. Тогда я уже обзавелась связями в смысле культуры, и только потому удалось достать билеты на концерты Райкина и Магомаева. Зал небольшой, кулис в полном смысле слова не было, а сидела я так, что видела, как Райкину меняют мокрые от пота сорочки после каждого номера. Это вам не нынешние петросяны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
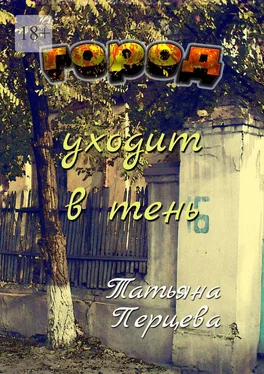
![Татьяна Гуркало - Город для хранящего [СИ]](/books/30532/tatyana-gurkalo-gorod-dlya-hranyachego-si-thumb.webp)

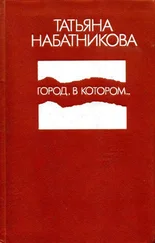
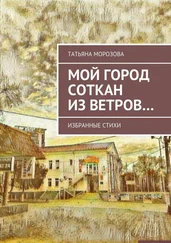
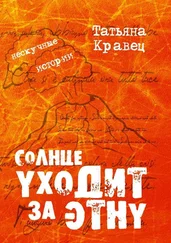
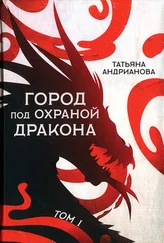
![Татьяна Русакова - Город, которого нет [Фантастическая повесть]](/books/410082/tatyana-rusakova-gorod-kotorogo-net-fantastichesk-thumb.webp)