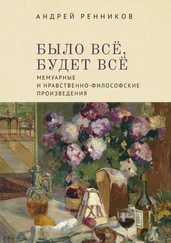Но зато попытка наша приучить и авторов, и читателей к правильному склонению малороссийских фамилий, оканчивающихся на «ко», не привела ни к чему. Некоторое время мы склоняли эти фамилии по образцу слов среднего рода, как «лукошко» или «окошко»: Шевченко, Шевченка, Шевченку. Но, в конце концов, сдались.
Следует ли говорить, с какой осторожностью мне нужно было писать в начале своего сотрудничества в «Новом времени», чтобы не обнаружить в стиле или в оборотах речи южных «идиом». На юге у нас не только в низших классах населения, но и у интеллигентов, встречалось немало неправильностей: землянику называли клубникой, пасху именовали сырной пасхой, вместо «так же» говорили «так само».
А Одесса в этом отношении была особенно страшна. Одесситы входили во двор своего дома через форточку, прыгали с трамвая передом взад, посещали театры битками набитые; в слове магазин ставили ударение на втором слоге, в слове молодежь переносили ударение с последнего слога на первый.
Разумеется, я всем этим в Одессе не заразился. Но мало ли что может быть совершенно случайно! Ведь Куприн, например, писал, в общем, правильно, а все-таки под влиянием юга употреблял в своих рассказах выражение «стояли хорошие погоды»…
Вскоре после своего поступления в «Новое время» получил я от главного редактора командировку в Северо-Западный край для зарисовки бытовых особенностей в глухих углах. Командировка оказалась интересной. Выполнив задачу, вернулся я в Петербург, в ближайшую же ночь явился в редакцию на обычное собрание сотрудников и, полный впечатлений, с увлечением стал рассказывать коллегам о том, что видел и слышал.
– А как трудно было добираться до некоторых мест! – говорил я. – Приходилось ехать сначала поездом, потом – пароходом, затем – лошадьми…
Возле той группы, которая собралась вокруг меня, в глубоком кресле сидел мрачный передовик Е. А. Егоров. Он хмуро слушал, что я говорил, непрерывно курил. А когда я окончил свое повествование, и слегка утомленные слушатели стали расходиться в разные стороны, Егоров, вдруг, обратился ко мне:
– Можно попросить вас об одном одолжении? – холодно спросил он.
– Ну, конечно, Ефим Александрович! А в чем дело?
– Я хотел бы, чтобы вы повторили мне то, что я в вашем рассказе не совсем хорошо расслышал.
– Пожалуйста.
– Если не ошибаюсь, вы говорили, будто в последнюю деревню вы сначала ехали поездом?
– Да. Поездом.
– А потом – пароходом?
– Пароходом, Ефим Александрович.
– Так, а после – лошадьми?
– Лошадьми.
– Очень хорошо. Любопытно. Ну, а скажите пожалуйста, вам в этом своем путешествии ни разу не приходилось ехать ослом?
Для ответа на подобный оскорбительный вопрос мне представлялось два выхода: или обидеться, или сделать вид, что не понимаю насмешки. Но, зная хорошее отношение Егорова ко мне, я, слава Богу, догадался найти третий выход.
Подошел к нему и с виноватой улыбкой протянул руку:
– Спасибо, Ефим Александрович. Запомню.
После этого памятного случая никогда персонажи моих рассказов и статей не ездили ни поездом, ни пароходом, ни лошадьми. И я сам тоже не езжу.
В. В. Комаров и Э. Э. Ухтомский
За время работы своей в «Новом времени» присмотрелся я и к остальной петербургской печати.
Правые газеты были немногочисленны и мало влиятельны. Не могли они похвастать и составом сотрудников. Ничего яркого, никого из выдающихся авторов. Общественным мнением, особенно в интеллигентских кругах, владели оппозиционные и революционные издания, из которых одни невольно, другие намеренно расшатывали государственные основы Империи.
Из умеренно правых газет, кроме «Нового времени», наибольшее распространение имел «Свет» В. В. Комарова. Печатался «Свет» в виде газеты небольшого формата, с убористым шрифтом, и читался главным образом в провинции, среди национально-настроенных мелких помещиков и чиновников.
Издатель его, Виссарион Виссарионович Комаров был красочной фигурой того времени. Убежденный патриот, ярый славянофил, участвовал он в борьбе за освобождение «братушек» и состоял у ген. Черняева начальником штаба. После балканской войны, издавая газету, он продолжал поддерживать связь с западными славянами, и редко кто из сербов, болгар или македонцев, приезжая в Петербург, не считал своим долгом побывать у Комарова, позавтракать, пообедать, а иногда даже переночевать. Милейший Виссарион Виссарионович не только кормил всех этих гостей, но и давал им деньги на общеславянское дело или на дело славянско-личное, не считаясь со своими средствами и с бюджетом газеты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
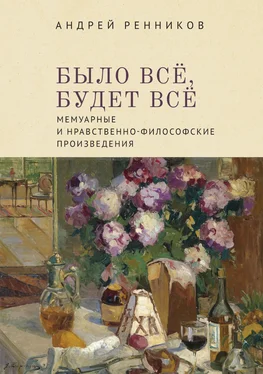
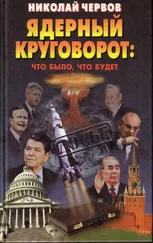

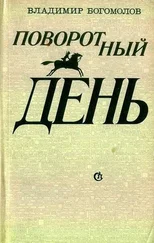




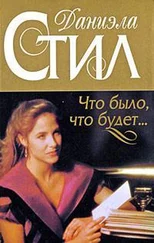

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)