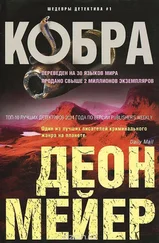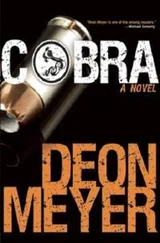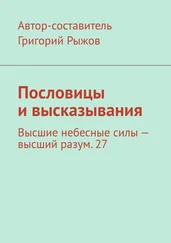В последующие минуты мысли Артура были заняты двумя Аугустами: одна, живая, восхищала его, и он знал: что бы ни готовило им будущее, он никогда ее не забудет; и другая, мертвая, лежащая перед ним, безжизненная, лишь едва ощутимое дыхание вырывается сквозь приоткрытые губы, сотрясаемая дрожью, выдающей неотступные кошмары, другая Аугуста блуждала где-то на расстоянии нескольких световых лет. Подобно савану, который скульпторы набрасывают на еще влажную статую из рыжей глины, слегка натянутая простыня обрисовывала тайные изгибы девушки: чуть выпуклый живот, впадинку между бедер, покойно лежащие груди. Яремные вены пульсировали в ритме сердца под прозрачной кожей шеи, которая была бледнее лица. Артур наклонился над этой бесстрастной маской, как наклоняются над раскрытой книгой, смысл которой не могут разобрать. Его обуял дикий страх: а вдруг она покинет этот мир, который до сей минуты, преодолевая отвращение, смело встречала лицом к лицу, в сиянии чистой и возвышенной души? Мысль о том, что Аугуста умирает на его глазах, и что он слишком поздно расслышал ее призыв о помощи, заставила его броситься к ней. Стиснув ее в объятиях, он ее разбудит, вернет на землю, прогонит холод, пока она не закоченела навсегда. Но вместо уже похолодевшего тела он почувствовал у своей щеки восхитительно теплую щеку, под своими губами — чудесно прохладную шею. Невнятный, вязкий голос пробормотал:
— Ты поклялся. Дай мне поспать.
Распрямившись, Артур заметил на ночном столике полупустой стакан с водой и коробочку с антидепрессантами. Горло у него перехватило от порыва любовной жалости. Через девять лет после убийства отца Аугуста все еще боролась с ужасным видением: шофер раскрывает дверцу лимузина, министр машет рукой жене и детям, скучившимся на крыльце, кричит им: «Adeus, ate sera!», и на слове «sera» его голова лопается, как перезрелый гранат. Мякоть и косточки забрызгивают кузов машины, тщательно отполированный тем же утром.
Вблизи женский лоб похож на непроницаемую стену, за которой таятся страхи и невероятно храбрые поступки, застигающие мужчин врасплох. Там можно разглядеть источник опасений, столь часто внушаемых женщинами, и реакцию, вызванную этим страхом: презрение и жестокость, в общем, все, что только есть в мужчине самого трусливого и подлого перед угрозой абсолютной власти, которую он должен задушить в зародыше, если не хочет быть рабом. Такие вещи особенно остро ощущаются, когда женщина, доверившаяся сну, снимает защиту и вновь становится ребенком, способным внушить самому черствому мужчине огромное и неотложное желание защитить ее от жестокости мира. Мендоса — великий Мендоса, могучий Мендоса, который, как ожидалось в международных политических кругах, однажды должен был занять высший пост в Бразилии, — Мендоса думал, что все предусмотрел, чтобы самые дорогие и близкие ему люди были счастливы и, возможно, даже славны в его обществе, рядом с ним, защищающим жестом обнимая их своими руками, прижимая жену к своей груди, положив одну руку на черные кудри Аугусты, а Жетулиу стоял рядом с ним, прямой, скрестив руки на груди, с вызовом во взгляде, который просто невозможно себе представить у столь малого ребенка.
Артур ничего не выдумывал: на круглом столике посреди каюты красовалась фотография в серебряной рамке — свидетель счастливых дней. В Женеве вдова Мендосы уже даже не вспоминала о нем. В Бразилии политики поделили между собой его клиентуру. Он жил теперь только в памяти Жетулиу и Аугусты. Убийцы не предусмотрели одного: преступление и его образ навсегда впечатались в сетчатку его дочери, которая не могла с этим смириться.
Многие годы спустя, мучимый бессонницей, Артур вновь переживал эту сцену. Как бывает, когда мы разбираем воспоминание по косточкам в обманчивой надежде выудить из памяти затерявшуюся деталь, которая дополнит и прояснит всю головоломку, он уже не был так уверен, что не смешивает свои сожаления, свои желания и реальность. Каждый молодой человек — это Фауст, который не знает себя, и если он продает душу дьяволу, то потому, что еще не постиг, что прошлого больше нет, что на этой сделке его одурачат. Позднее, осознав это наконец, он сможет только лгать самому себе, что всегда гораздо легче, чем лгать другим. Разговор, встреча, молниеносный образ занимают наш ум с такими подробностями и такой четкостью, что не оставляли бы никаких сомнений, если бы тот или та, что при них присутствовали или даже участвовали, не утверждали (порой со смущающей неискренностью, порой с очевидной правдивостью), что совершенно о них не помнят. Но тогда в какой из наших предыдущих жизней мы пережили или увидали во сне это вспоминание? Никто об этом уже не знает или не хочет признаться. Однако Артур не мог сам выдумать душную волну ни с чем не сравнимого счастья, которая захлестнула его, когда, вместо тела, которое он, в момент панического страха, уже считал холодным, его щека, губы, руки встретили мирную теплоту Аугусты и ее восхитительную плоть. Словно молния блеснула перед ним, осветив и ослепив: он понял, что никогда ее не позабудет, что ни одна женщина не заставит его пережить такое чувство, и никакое другое чувство, которое обычно принято испытывать в радости, без того, чтобы оно сменилось тоской. Воспоминание обрывалось на этом моменте, и Артур не мог бы сказать, сколько времени он обнимал спящее тело Аугусты: секунду, минуту, час? Вероятнее всего — одну секунду, так как голос еще договаривал: «Ты поклялся. Дай мне поспать», когда дверь каюты раскрылась, и Элизабет, в свою очередь, закричала: «Артур, Артур, оставь ее!», а он, стоя на коленях, видел, как Аугуста закрыла лицо руками и стала вертеться на кушетке, пока не свернулась калачиком на боку, отвернувшись к стенке, неподвижно, спеленутая, точно смирительной рубашкой, простыней, намотавшейся на ее плечи. Но как увязать эту сцену со следующей, столь неожиданной, что, несмотря на свою силу, Артур не смог дать отпор обезумевшей от гнева Элизабет, которая схватила его за волосы, опрокинула на спину и стала пинать ногами в ребра? Когда впоследствии они над этим смеялись, она припоминала только один пинок, зато выговаривала ему за подножку, из-за которой она рухнула навзничь на палас, полуоглушенная от удара об угол комода. Аугуста спала, унесясь от них далеко-далеко, в другой мир, и конец этому поединку положило внезапное открытие: отвернувшись к стенке, она наполовину оголилась, выставив перед Элизабет и Артуром не самое сокровенное, но самое забавное — поясницу, щелочку между пышными и крепкими ягодицами, продолжаемую сомкнутыми бедрами, бледный сгиб под коленями, икры и ноги в носках с вышитым на них Микки-Маусом. Ничто не походило меньше на утонченное создание, кутающееся в манто из нутрии, нахлобучив по самые глаза шляпку-колпачок, опирающееся на руку Жетулиу. Просто невозможно, чтобы это была она, та самая, и Артур решил бы, что у него галлюцинация, если бы Элизабет не бросилась к Аугусте и не одернула простыню, чтобы ее прикрыть.
Читать дальше