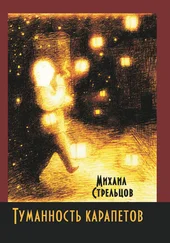– А ты куда едешь-то?
– В Балахту, я в командировке.
– Ну езжай, Женя. Не задерживайся уж. А обратно когда?
– Послезавтра – думаю.
– Вот послезавтра и заезжай. Я как раз твоим – подарочек приготовлю.
Как до утки дошло – ехать мне дальше с Саней трезвым. И почему-то обрадовало. Всё лучше, чем воспоминания Кердыша. Виктор Петрович скучать бы, конечно, не дал, уже ощущалось, что он мог и хотел рассказать кучу всякого забавного и интересного, в усмерть – заговорить, но я всё равно буду лишним за этим столом под кронами, где более желанная компания: водка, закуска и книги. Моментально расползлось чувство обоюдной неловкости, из которой я выпрыгнул через калитку со словами:
– Конечно же – заеду!
Через два дня мы возвращались, но Виктора Петровича дома не оказалось. Какая-то бабуля из соседей сообщила, что он прихворнул и в город уехал.
А тогда, нырнув в кабину, на вопрос Сани: «И чего он тебе сказал?», ответил: «Да ничего особенного». Впереди маячило более ста километров до Балахты, переправа на пароме через Енисей, длинная дорога назад, во время которой я думал, перебирал нашу крохотную встречку, внезапно осознав – он мне сказал если и не всё, то самое главное.
Года три назад сгорел дом, где я родился. Продали мы его в середине 80-х. Неоднократно перепродавался, уходя из рук одних пьющих людей к другим, более пьющим. В итоге – сгорел. Ещё год назад с асфальтированной трассы улицы Новая можно было заметить его обугленный, без крыши, остов. А этим летом, специально заехав, обнаружил ровнёхонький пустырь. Из былых пяти красавцев кедрача на участке – остался один. Из трёх берёз – ни одной. Ни сарая, ни гаража, ни ели, не углярки. Заросший пустырь.
Соседние дома – стоят целёхонькие. Конечно, преобразились как-то, изменились. И не скажу, что обветшали. Дом Захаровых напротив нашего – даже какой-то модернизированный, с пластиковыми окнами, с параболической антенной. Всё за тем же высоченным забором. Только без Захаровых.
Дядя Дима – как я сейчас прикидываю, и пятидесяти не было – был первым увиденным мной покойником. Высоченный, плечистый. Причина – сказали – на работе надорвался. Крановщиком работал. Поэтому я сразу же решил, что в крановщики не пойду. Это был единственный раз, когда пустили внутрь дома Захаровых – мама привела проститься с дядей Димой. Тот был другом моего отца, которого не стало ещё до того, как я начал осознавать окружающий мир, и тетя Нина Захарова отчего-то всю жизнь мою мать к дяде Диме ревновала. А меня особо не любила – считая побочным сыном своего мужа. Единственным основанием для этого являлось то, что тётю Нину боялись все: и дети, и взрослые. Потому что она была – алкашка. Этот «прозвище» до сих воспринимаю как признак полной неадекватности. Эта маленькая, субтильная женщина в косынке могла пнуть, обматерить любого, кто встретился по дороге. Запустить камнем. И в окно. Приволочь и перекинуть через забор где-либо найденную дохлую собаку.
Жили мы по улице Горной. Более широкой, чем ещё пара улочек от нас до холма, на котором располагалось городское кладбище. Причём улица была ровнёхонькой, без бугорков. Лишь с мостиком через ничтожную речушечку под названием Маральник. Возможно, улицу назвали так потому, что ранее была ближе всех к тому холму, на который попасть хочется в самую последнюю очередь. В середине 70-х автомобиль ещё был особой роскошью. «Городских» хоронили, подвозя гроб на бортовых машинах либо на пассажирских ПАЗиках, куда он входил впритык.
Местные же уносили своих покойников – по шесть мужиков, подставив плечо. И покойники плыли в своих красных лодочках, свысока, над заборами прощаясь с нами, жителями пригорода. Как красноярцы, иронично, с чёрным юморком намекая на свой почтенный возраст и серьёзные заболевания, поговаривают: «На Бадалык пора», так и мои земляки на вопрос о самочувствии отмахивались: «Скоро по Горной пронесут». И их несли.
Тетя Нина Захарова сгорела от водки в конце восьмидесятых. Их с Дмитрием дети, две дочки, давно выросли и разъехались, кто куда.
Рядом с ними, перед мостком, жила супружеская пара. Жилистый невысокий дед Иван и его баба Дуся. Именно её перепалки с тетей Ниной были наиболее слышны окрест. Дело в том, что баба Дуся не могла при появлении тёти Нины быстро скрыться за оградой. Огромное, рыхлое, беспомощное после инсульта тело, на котором метрономно качалась головка в неизменном – белом в горошек – платке, уносилось и приносилось на скамейку подле забора мужем, безумно её любившим. Кроме Дуси, Иван не воспринимал никого. И нас, детей, в ограду и в дом не пускал. Дуся же, загодя прихватив конфет и пряников, нас, шатавшихся по Горной без дела соплюх, привечала, зазывала и угощала. Но мы, похватав вкусности, норовили сразу же убежать. Поскольку её трясущаяся голова была неприятной. Но более всего боялись хмурого, исподлобья взгляда деда Ивана. За всё время я только дважды услышал, как он, кратко выстраивая в предложения слова, разговаривает.
Читать дальше




![Михаил Стрельцов - Узют-каны [litres]](/books/404322/mihail-strelcov-uzyut-kany-litres-thumb.webp)