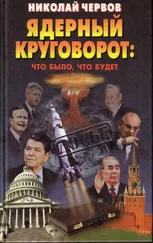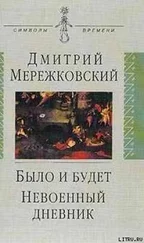Странно, что и дочь уловила происшедшую в семье перемену и стала в своих притязаниях более требовательной, настойчивой, почти агрессивной. Ляпин был вынужден-таки купить ей магнитофон и ждал, чего же она еще теперь потребует.
Октябрь они с женой провели в доме отдыха, в Крыму. Здесь Ляпин впервые заметил за собой никогда ранее не свойственную ему скупость. Каким-то нелепым, парадоксальным образом он стал скаредничать именно теперь, когда денег стало гораздо больше. Особенно явно это проявлялось в мелочах: было жаль потратиться на такси, на билеты в театр, на пустяковую покупку. Он как бы предчувствовал, что впереди, в будущем, его ждут некие основательные, солидные затраты и приобретения, и поэтому ему не хотелось сорить деньгами по пустякам. Скоро он удивленно и с некоторым даже удовлетворением уловил, что жена солидарна с ним в этом. Они дружно подсчитывали и урезали расходы, дружно ругали здешнюю базарную дороговизну, дружно соглашались сэкономить то на одном, то на другом.
Имелось и еще одно чувство, которое объединяло Ляпина с женой. Зависть. Оно и раньше, в общем-то, не было ему чуждо, но теперь стало расти и развиваться в нем с удивительной быстротой. Он постоянно ловил себя на том, что пристально и завистливо рассматривает то одежду на ком-нибудь из окружающих, то новенькую сверкающую машину, то особнячок, редкостно уютный и привлекательный. Рассматривает и прикидывает возможность когда-нибудь, пусть в самом отдаленном будущем, иметь нечто подобное и самому. В такие минуты они часто встречались с женой глазами, и искра взаимопонимания мелькала в них.
Все время жизни в доме отдыха Ляпина мучила ревность, хотя особых причин для этого как будто бы и не существовало. Они с женой постоянно были вместе, и он не замечал с ее стороны стремления освободиться от его присутствия. Однако масса черточек в поведении жены говорила Ляпину о том, что она сдерживает себя, понимая всю безнадежность попытки учинить интрижку, курортный роман на его глазах. А внутренняя тяга у нее к этому была, это прямо-таки сквозило в ее поведении, голосе, движениях, смехе. Наблюдая, как она танцует вечерами на веранде, как играет в волейбол или теннис, как ходит по пляжу в редкие солнечные дни, Ляпин видел в ней готовность к разговору с любым из окружающих ее мужчин, к знакомству, к сближению. В такие моменты ему казалось, что он улавливает в ее глазах скрытый вызов, насмешку и презрение. «Да, теперь нельзя, — словно бы говорил ее взгляд. — Я это понимаю и не буду делать глупости. Но потом, когда ты не будешь торчать рядом…»
Домой Ляпины вернулись в ненастный ноябрьский день. Грязно-серые, в редких белых прожилках и пятнах облака уныло и монотонно ползли над городом, едва не цепляясь за крыши. Время от времени из них начинал сыпаться скудный, мелкий, ледяной дождь. Ветер дул с надоедливым, однообразным упорством, деревья стояли голыми, на тротуарах и мостовых листвы уже не было, и лишь кое-где в укромных местах она еще лежала — измятая, бесформенная, обесцвеченная дождями.
Настроение у Ляпина было под стать погоде. Ему казалось, что в его жизни начинается какая-то новая полоса, в которой все будет вот так же серо, зябко, пусто и холодно. Проведя почти месяц в безделье, он не чувствовал себя отдохнувшим. Тело было ленивым и вялым, голова мутной, мысли размытыми и зыбкими. Его преследовало странное ощущение, что он очень постарел за последнее время. Да и зеркало подтверждало это: лицо отяжелело, набрякло как-то, глаза смотрели с унылой тоской.
О работе ему даже думать неприятно было. Не то, чтобы тяжесть ее пугала, нет. Тут что-то другое примешивалось. Отвращение, брезгливость… Та тяга к работе, которую он испытывал еще так недавно, теперь представлялась странной, бывшей как бы и не с ним.
В больнице, в отделении все осталось точно таким же, что и раньше, вплоть до пустяков, до мелочей, и Ляпин был даже разочарован этим, словно надеялся обнаружить здесь что-то новое. Первые дни после отпуска всегда бывали нелегкими для него, а в этот раз особенно. Никак он не мог втянуться в дело, какое-то вязкое, унылое равнодушие мешало ему. Все, что он видел, все, что он делал, казалось надоевшим, однообразным, безрадостным. Ни душа, ни руки ни к чему не лежали, и приходилось усилием заставлять себя двигаться, говорить, делать операции и обходы — выполнять обязанности. Работа вдруг обернулась к нему обратной, теневой стороной, изнанкой, и все в ней теперь было так нехорошо, так скучно и грубо. И обследование пациентов, и беседы с ними, и записи в историях болезней томили его своей похожестью, и он с отвращением думал, что все это будет повторяться вновь и вновь — и завтра, и послезавтра, и через десять лет.
Читать дальше