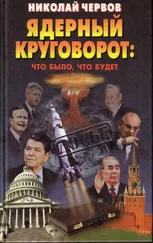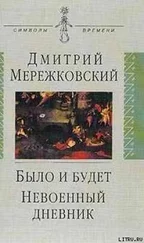— Я себе на жизнь честно зарабатываю, побираться не хожу, — сказал Афанасий с достоинством. — А что касаемо всяких там безобразий — это дело не мое.
— Хитер! А если б все так рассуждали?
— Если б все, как я, жили, то и безобразий бы не было.
— Да если б все, как ты, мы б в лаптях ходили по сю пору!
— Ну так что? И лапти вещь хорошая, — засмеялся Афанасий. — Я о них даже заметку недавно читал. Удобная, пишут, штука была.
— Слушай! — оживился Кузьмич. — А ведь тебя, такого, от работы отстранить надо.
— Это почему?
— А потому, что ты по своим рассуждениям сторожем быть не можешь. Говоришь ведь, никому не вреди, никого не трогай, никуда не вмешивайся. Так как же сторожить-то народное добро? А воры если? Тебе ведь отпор им надо давать.
— Не было еще ничего такого, — пробормотал Афанасий.
— А если будет?
— Тогда посмотрим…
— А-а-а! Посмотрим! — Кузьмич погрозил приятелю пальцем. — Не сходятся у тебя концы с концами.
В селе Афанасий был человек пришлый. Появился откуда-то лет десять назад, купил хибарку, устроился сторожем на кирпичный завод и начал жить. Что в прошлом у него осталось — никто не знал. Поговаривали даже, что в тюрьме пришлось ему долго сидеть, но в это Кузьмич не верил. Эдакий святоша, и вдруг тюрьма — не вязалось совсем такое. А вот семья у Афанасия была когда-то, как уловил Кузьмич из разных его случайных обмолвок. Подробнее же спросить не решался: раз молчит, зачем же в душу лезть?
Относились к Афанасию по-разному. Кто его считал человеком себе на уме и опасался, кто в баптисты зачислял, а кто и просто в дурачки. Бабы особенно его не любили, и он их не жаловал. Некоторые же из мужиков нет-нет да и захаживали: покурить, потолковать о всяком разном, странноватые его разговоры послушать. Афанасий ко всем проявлял равную приветливость, одного лишь не терпел — когда с вином к нему заявлялись. И сам в рот спиртного не брал и не разрешал, чтобы в его доме пили.
— Хорошо тут у тебя, — сказал Кузьмич. — Как в лесу, береза, елки… Вон, смотрю, еще одна березка поднимается. Не будешь убирать?
— Зачем? — пожал Афанасий плечами. — Пусть живет. Я давно за ней наблюдаю, самосевом пробилась.
— Хорошо, — повторил Кузьмич, — только уж очень сорно. Наполовину у тебя земля зря гуляет, считай.
— Почему зря? Сам же говоришь — хорошо.
— Так это для глаз только.
— И для глаз надо, — назидательно проговорил Афанасий. — Не для одного же живота человек стараться должен.
— Слушай, а если б у тебя весь участок елками да березами зарастать начал, ты бы тоже их не убирал?
— Не зарастает ведь пока, — усмехнулся Афанасий. — А гадать нечего, тогда бы видно было, что делать.
Кузьмич лежал на животе, подперев щеку ладонью. Земля под ним была тепла, трава мягка и шелковиста. Ветерок чуть пошевеливал густой, накопившийся к полудню зной, тормошил листву, щупая травинки. Покой и тишина, обнимавшие Кузьмича, тоже казались густы, вязки, и говорить, двигаться, преодолевать их было лень. Кузьмичу мерещилось, что он лежит в этих густых, зеленых зарослях очень уже давно, что перепалка с Коньковым и Васькой, надсадный крик, волнение, дрожь в руках — все это происходило не какие-нибудь полчаса назад, а день, неделю… Из-за подобного чувства, которое часто снисходило на него у Афанасия, он и любил ходить сюда. Потная, горячая житейская суета здесь приглушалась как-то, мельчала, теряла вес и значимость.
Молчали долго. Кузьмич знал, что Афанасий редко прерывает молчание. Спросишь его о чем-нибудь, ответит охотно и доброжелательно, порассуждает даже иногда, а сам, по своей охоте, почти никогда не заговаривает. Сидит, поглядывает вокруг, поблескивает ласково своими маленькими, глубоко посаженными глазками. Можно было подумать, что он давно уже все для себя решил и интересоваться ему в жизни людской нечем.
— Ты верующий? В бога веришь? — спросил вдруг Кузьмич и удивился своему вопросу. Само собой как-то спросилось, обстановка, что ли, такая располагающая была.
— Как тебе сказать… — пробормотал Афанасий задумчиво. — Молиться не молюсь и церковь не посещаю.
— Значит, не веришь?
— Я в жизнь верю. Жизнь и есть бог, — сказал Афанасий строго. — Все живое свято.
— И в Конькове, соседе твоем, тоже святость имеется, выходит?
— А что же, и в нем, раз живой он человек.
— Ну это ты врешь! Он же сволочь, пробы ставить негде.
— Это в нем ошибки, грехи себя оказывают. И это поправимо.
— Ха! Исправь, попробуй. Я с ним только что чуть не подрался.
Читать дальше