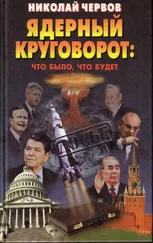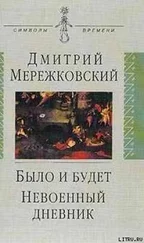Огород Афанасия был запущенным до последней степени. Вишенник его заполонил, выродившаяся смородина и малина. Картошка была хилая и крепко подернутая сорняком. Вдоль полурассыпавшегося плетня могучей, наглой стеной стоял бурьян, да и запах во дворе держался бурьянный — едкий, горький, густой.
Дверь в дом оказалась открыта, и Кузьмич вошел. Крохотные оконца даже в такой яркий, солнечный день давали мало света, и он помедлил у порога, приучая к сумраку глаза.
Комната с серыми, давным-давно небеленными стенами выглядела полупустой. Лишь узкая железная кровать, накрытая вытертым одеялом, стояла здесь, да кустарного изготовления грубый стол, да две некрашенных, приземистых табуретки. Над столом к стене была прикреплена доска, на которой лежали несколько книжек и стопка газет. Рядом висела картина: большеглазая женщина с младенцем на руках. Младенец косил в сторону свои широко открытые глаза, и выражение их казалось странным — взрослым почти.
В комнате, несмотря на ее мрачность и запущенность, было для Кузьмича что-то приятное. Может быть, отсутствие мелочей, разного житейского мусора. Думалось, что жить в такой комнате очень просто: хочешь — ляг на кровать, полежи; хочешь — сядь, посиди за столом на табуретке, книжку с полки возьми, почитай…
Кузьмич заглянул в закуток, служивший Афанасию кухней, и вновь вышел во двор. Хотя дом был и открыт, это отнюдь не говорило о том, что хозяин где-то поблизости. Он его вообще никогда не закрывал на замок, да и правильно, пожалуй, делал — позариться тут было не на что. Оставалось последнее, посмотреть, нет ли Афанасия на задах огорода, сиживал он там иногда в тенечке, особенно в жаркие дни. И действительно, пробравшись туда по узенькой, полузаросшей тропинке, Кузьмич увидел приятеля, сидевшего на чурбачке под березой с книгой в руках. Рубаха и штаны Афанасия были заношены, измяты, но вся фигура его, несмотря на это, оставляла впечатление аккуратности. Лысина поблескивала в обрамлении седых волос, очки в черной оправе выглядели строго, по-учительски, а толстая книга чинно так лежала на сомкнутых коленях.
— Привет отшельнику! — крикнул Кузьмич подходя.
Афанасий поднял голову, и его круглое лицо стало еще круглее от широкой, ласковой улыбки.
— Привет, привет! — Он встал, пожал Кузьмичу руку, показал на чурбачок. — Присаживайся.
— А-а! — отмахнулся тот. — Я лучше на травке поваляюсь. Что это за библия у тебя?
— «Жизнь животных». Про насекомых в этом томе описано.
— Ох-хо-хо! — иронически вздохнул Кузьмич. — Тут в человечьей жизни ни хрена не поймешь, а ты с насекомыми разбираешься. Ну и как они, букашки твои, поживают?
— Я про муравьев сейчас читаю. Большой им разум дан! — Афанасий восхищенно покрутил головой. — И где он у них только, у малявок таких, помещается. Каждый при своем деле занят: тот рабочий, тот сторож, тот солдат. И всяк на общую пользу старается. Вот и у пчел тоже так.
— Ну прочитал ты про это, ну а дальше что?
— А ничего. Интересно просто. Вот встретишь теперь в лесу муравейник и знать будешь, как там у них все идет. Приятно.
— Ну-ну, — пробормотал Кузьмич с насмешкой.
Афанасий был большой книгочей, и его часто можно было встретить на пути в библиотеку или из нее с книжками в руках. Да и дома, как к нему ни придешь, вечно он читает то у себя за столом, то в хорошую летнюю погоду, под березкой сидя. Книги у него бывали какие-то странные и очень толстые. В последние полгода, например, он читал громадную книжку про императора Наполеона. Вся жизнь француза этого была там подробно описана. И разговаривал тогда Афанасий только про Францию, про Наполеона, да про войну. А теперь вот, пожалуйста, за насекомых взялся, за пчел, за муравьев. И тоже, наверное, на полгодика ему данного занятия хватит — книжка-то вон какая, держать тяжело.
— Что это ты все муру, извини меня, читаешь? — спросил Кузьмич. — То Наполеон, то муравьи. Ты бы чего-нибудь жизненное почитал, к нам поближе.
— Жизненное я и сам вижу и понимаю, — сказал Афанасий.
— Ну и как? Поделись опытом. Зачем ты на свете-то живешь? Один как перст, никому ничего…
— Зачем? А для радости. Другим не вреди да жизни радуйся — вот и весь сказ.
— И чему же ты радуешься?
— А всему. Видишь, день какой благодатный? Радость. Вон птичка поет. Тоже радость. Ты вот ко мне зашел — и это хорошо. Живи и радуйся и другим радоваться не мешай.
— Хитер ты, брат! — вскинулся Кузьмич, зашарил по карманам, стал закуривать. — Радуется он, понимаешь! А кто же работать да с безобразиями всякими бороться будет? Пушкин, Александр Сергеич?
Читать дальше