Мсье Ляруэль, весь окутанный паром, приставил ладони к ушам, показывая, что не расслышал:
— А о чем же вы разговаривали? Ты и Вихиль?
— Об алкоголе. О безумии. О давлении спинномозговой жидкости. Мы старались идти друг другу навстречу. — Теперь консул, не стараясь скрыть свою дрожь, взглянул через распахнутую балконную дверь на вулканы, которые снова обволоклись дымом, а затем грохнул орудийный залп; и снова консул устремил алчущий взгляд к башне, где остались нетронутые бокалы. — Толпа откликается, но лишь на призывы пушек, которые сеют смерть, — сказал он, услышав, что шум ярмарки тоже усилился.
— Что такое?
«Как же ты стал бы их развлекать, если бы они не ушли, — хотелось крикнуть консулу, потому что сам он с отвращением вспоминал про душ, про струйки, обволакивающие тело, скользкие, словно мыло, которое не удержишь в дрожащих пальцах, — под душ полез бы при них, что ли?»
А самолет с наблюдателями уже возвращался, или нет, какое там к черту, вот он, вот, неведомо откуда с ревом мчится прямо на балкон, на консула, ищет его, завывает… У-у-у-у-у-у-у-у! Таррарах.
Мсье Ляруэль покачал головой; он не слышал ни единого звука, ни единого слова. Теперь он перешел в другую неглубокую нишу с занавеской, служившую ему туалетной комнатой.
— Прекрасная погода, правда?.. Но мне кажется, будет гроза.
— Нет.
Консул вдруг направился к телефону, который тоже находился в какой-то нише (сегодня казалось, что ниш в этом доме стало много больше против прежнего), взял телефонную книгу и, дрожа всем телом, открыл ее; не Вихиль, нет, не Вихиль, звенели его нервы, Гусман. А, Б, В, Г. Он весь обливался потом; в этой крошечной нише стало вдруг жарко, как в телефонной будке в Нью-Йорке летом, когда наступает зной; руки у него лихорадочно дрожали; 666, аспирин с кофеином; Гусман. Эриксон, 34. Он отыскал номер и тут же позабыл его: со страниц телефонной книги на него прыгнула фамилия Сусугойтеа, Сусугойтеа, а потом Санабриа; Эриксон, 35. Сусугойтеа. Он позабыл, позабыл номер, 34, 35, 666; он снова листал книгу, теперь уже с конца, и крупная капля пота упала на страницу — наконец ему показалось, что он видит фамилию Вихиля. Но он уже снял трубку, снял трубку, снял трубку, он держал ее вверх ногами и говорил, брызгал слюной в слуховую раковину, в микрофон, ничего не слыша, — а они что-нибудь слышат? что-нибудь видят? — как утром.
— jQue quieres? [148] Чего тебе? (исп.).
Кого надо… к черту! — крикнул он и швырнул трубку. Прежде чем браться за такое дело, надо выпить. Он бросился по лестнице наверх, но с полпути, дрожащий, обезумевший, повернул назад: ведь я же забрал поднос вниз. Или нет, коктейли там, наверху. Он опять побежал на башню и осушил все бокалы, какие ему удалось найти. В ушах у него зазвучала музыка. На склоне перед домом появилось стадо, голов триста, мертвые, окаменевшие на ходу, а потом все они вдруг исчезли. Консул опорожнил шейкер, тихонько спустился с лестницы, взял книгу в картонном переплете, лежавшую на столе, сел и открыл ее с тяжким вздохом. Это была «La machine infernale» [149] «Адская машина» (франц.).
Жана Кокто. «Oui, mon enfant, mon petit enfant, — прочитал он, — les choses qui parais-sent abominable aux humains, si tu savais, de l’endroit oii j’habite, elles ont peu d’importance» [150] «Да, дитя мое, моя крошка, знай, что те вещи, которые кажутся ужасными людям, там, где обитаю я, не имеют значения» (франц.).
.
— Можно бы выпить на площади, — сказал он, закрыл книгу и тут же снова открыл другую; гадание по книге. «Да, боги есть, но в дьявольском обличье», — сообщил ему Бодлер.
Он уже забыл о Гусмане. «Los borrachones» вечно низвергались в пекло. Мсье Ляруэль, который ничего не заметил, вышел элегантный, в сверкающем белизной фланелевой костюме, взял с книжной полки теннисную ракетку; консул отыскал свою трость и темные очки, а потом они вместе спустились по винтовой лесенке.
— Absolutamente necesario.
Выйдя из дома, консул постоял немного, обернулся…
No se puede vivir sin amar было написано на стене дома. Ветер совсем улегся, и они молча шли рядом, слыша, как нарастает шум фиесты по мере их приближения к городу. Улица Огненной Земли. 666.
…Мсье Ляруэль, казалось, стал еще выше ростом, потому что шел по верхнему тротуару неровной улицы, и консул вдруг почувствовал себя рядом с ним жалким карликом или ребенком. Много лет назад, в детстве, дело обстояло наоборот: консул тогда был выше. Но консул перестал расти в семнадцать лет, достигнув пяти футов и не то восьми, не то девяти дюймов, а Ляруэль еще не один год продолжал расти где-то под иными небесами и теперь вот стал недосягаем для него. Недосягаем? О мальчике Жаке консул иногда до сих пор вспоминал с нежностью: как забавно, например, произносил он слово «грамматика», рифмуя его с «мастика», а «Библия» с «колея». Кривая колея. Теперь он вырос, сам бреется и сам надевает носки. Но что он недосягаем, это вряд ли. По прошествии стольких лет, теперь, когда в нем шесть футов и не то три, не то четыре дюйма росту, можно с большой вероятностью предположить, что он не сделался совершенно недосягаем для влияния консула. Иначе зачем бы ему носить такой же твидовый пиджак, и эти вот дорогие, шикарные английские теннисные туфли, в которых не стыдно прогуляться по городу, и английские белые брюки со штанинами шириной двадцать один дюйм, и английскую рубашку с открытым воротом, каких в Англии давно уж не носят, и диковинный шарф, который он вполне мог бы получить некогда в Сорбонне как спортивный приз? И хотя он несколько располнел, движения у него гибкие, изящные, вполне достойные англичанина и даже бывшего консула. Кстати, зачем бы Жаку вообще играть в теннис? Ты помнишь, Жак, как я сам учил тебя играть в эту игру тем летом, давным-давно, за Таскерсоновым домом или на новых городских кортах в Лисоу? В такие же вот дни, как сегодня. Столь краткой была их дружба, но все же, думал консул, до чего могущественным, всеобъемлющим, поистине объемлющим всю жизнь Жака, оказалось это влияние, которое обнаруживается даже в подборе книг, даже в его работе… и главное, зачем бы Жаку приезжать в Куаунауак? Не затем ли прежде всего, чтобы исполнить его, консула, волю, изъявленную на расстоянии, ради целей, известных ему одному? Человек, с которым он встретился здесь полтора года назад, хоть и разочаровался в своем искусстве и в своей судьбе, показался ему самым типичным и явным французом, какого он встречал в жизни. И строгий профиль Ляруэля, видный ему сейчас на фоне неба, синеющего в просветах меж домами, никак не вяжется с презренным цинизмом. Разве сам консул не толкнул его, можно сказать, хитростью на позор и бесчестие, почти желая, чтобы этот человек его предал?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
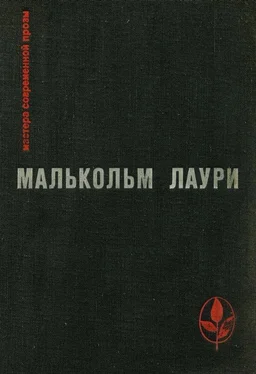





![Олег Кобельков - По лесным тропинкам [Рассказы и сказки]](/books/388103/oleg-kobelkov-po-lesnym-tropinkam-rasskazy-i-ska-thumb.webp)




