«Возлюбленная его уже не та, кого он любил десять лет назад», — мрачно сказал старик Паскаль. Не спорю. «Она не та уже, и он не тот. И он и она были молоды; теперь она совсем другая. Возможно, он бы все еще любил ее, если бы она осталась прежней». Так когда-то пугал нас зрелым возрастом сумрачный глубокомысленный Паскаль, бескорыстный и (в прочих отношениях) добрый друг моей молодости. И зря пугал. Я, без сомнения, люблю жену теперь гораздо сильнее — всеми своими прибавившимися годами люблю. И с какой стати мне желать, чтобы она оставалась прежней? Хотя отчасти она и осталась — подобно тому как нынешняя весна вместе и та и не та, что весны прошлых лет. И мне подумалось — быть может, мы старимся просто в том смысле, в каком старятся и сами времена года, чтобы затем обновиться, пройдя через своего рода смерть. И в самом деле, продолжительность времен года, характер их изменился (или так мне кажется) намного сильней, чем переменилась жена. Зимы к нам приходят теперь прямиком из Заполярья, похолодало и на востоке континента, куда сместились с запада прежние наши зимы, а минувшая зима была самой длительной и мрачной у нас на памяти, и чуть ли не мерещилось уже начало нового ледникового периода, новых поисков теплого рая. Тем желанней и милей был нам приход весны. Сам я, впрочем, внешне постарел. Проседь густо присолила один висок, и наша новейшая семейная шутка — об этой «полублагородной седине». Однако я не чувствую себя старее, физически я вдвое крепче прежнего и во всех отношениях полон здоровья. Пятидесятилетие теперь светит мне впереди радужным светом портовых огней, а что до старика Паскаля, так ведь когда он умер, то был моложе, чем я сейчас. И я подумал, что, проживи бедняга подольше, он не стал бы говорить таких вещей.
— А интересно, где сейчас Кристберг?
— Да вот он.
В эту самую минуту явился Кристберг, вынырнув из тумана. Он, оказывается, ходил на промысел вверх по реке Фрейзер — надо было «из долга вылезть» (Кристберг протянул: «из до-олга», и сразу стало ясно, какой это был долгий долг). В минувшую зиму холода впервые вынудили его на время перебраться в город, а свое судно он оставил на нас с Квэгганом. Кристбергу уже скоро семьдесят, он заметно похудел, но бодр и крепок, и морщин на лице намного меньше — разгладились. Он уже не поет песенку о ветре, крепко задувающем в квартале красных фонарей, по по-прежнему на нем те же прочные ирландского твида штаны и та же куртка лесоруба, что он носил, когда был на шестом десятке (как я сейчас на пятом). Тогда-то я считал его стариком, а теперь — скорее своим сверстником.
— А, вот и вы, Николай. Мы по вас соскучились.
— Да погода эта переменчивая, миссис… В городе побывал… В трамваях толкотня и суетня, и ни одной поливочной машины на улицах. Грязь так и въелась в асфальт… Раздобыл бутылочку-другую хлебной…
Он скрылся в тумане, а мы пошли дальше по нашей тропинке, по Протеевой-с-Беллом тропе, на которой много лег назад путь от родника стал так удлиняться, а потом — так укорачиваться. Туман редел; я думал.
Как же плохо мы понимаем наше странное эриданское приключение. Или спросить бы — как случилось, что мы ни разу не задумались всерьез над истолкованием пережитого; и уж подавно не пришло нам в голову увидеть в нем предостережение, некую весть, даже повеление в необычной, иносказательной форме, — повеление, которое я все же, кажется, выполнил! Но если б я и внял тогда скрытому предостережению, то все равно не смог бы отвратить страдание, ожидавшее нас в близком будущем. Даже сейчас понимание лишь смутно брезжит. Иногда мне думается, что путь стал казаться короче просто потому, что, по мере того как крепло мое тело, канистра делалась легче. Иногда же мне бывает нетрудно себя убедить, что значимость пережитого вовсе не в ноше и тропе, а, может быть, в том, что я нашел применение и канистре, и лестнице, той самой, по которой каждый раз спускался с водой, — обращение этого хлама на пользу человеку явилось прообразом того, как мне должно поступить со своей душой. Затем, разумеется — и значимей всего остального, — кугуар. Но чтобы додумать эти мысли до конца, мне недостает духовной оснащенности. Я только понимаю, и тогда еще понял, что меня, человека, поработило и тиранит минувшее и что мой долг — превозмочь это прошлое, вырасти из него в настоящее. Однако мое новое призвание связано с использованием того прошлого, с обращением его на пользу другим людям — в этом сокровенный смысл моей симфонии, да и оперы, и второй оперы тоже, которую я теперь пишу, и второй симфонии, которую напишу когда-нибудь. А чтобы обратить прошлое на пользу, от меня до написания еще первой ноты требовалось встать лицом к лицу с этим прошлым — встать как можно бесстрашней. О да, на тропе я впервые и взглянул прошлому в лицо. А не сделай я этого, разве могли бы мы стать счастливы, как счастливы теперь?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
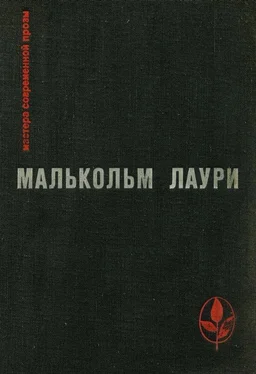





![Олег Кобельков - По лесным тропинкам [Рассказы и сказки]](/books/388103/oleg-kobelkov-po-lesnym-tropinkam-rasskazy-i-ska-thumb.webp)




