Менкина встал, подошел к столу посмотреть. Там лежал маленький плакатик, вверху — красные молот и серп. Плакатик был сделан очень привлекательно. Это так поразило Менкину, что он невольно протянул к нему руку и даже, кажется, улыбнулся. В тот же миг агент кулаком стукнул его по пальцам — наглость арестованного пробудила в нем бешенство. Ловко, молниеносно он хлестнул Томаша справа, слева по ушам.
Тут его потащили, затолкали в машину, сломя голову повезли обратно в Жилину. Сильные удары по ушам оглушили его. В голове зазвенело и звенело всю дорогу. Но больше болели пальцы. Сидел он впереди, рядом с шофером. А сзади стерегли его двое. Менкина свесил голову, пристально рассматривал ладони. На пальцах у него остался явственный красный след серпа и молота, на ладони зеркально отпечатались черные буковки. Несколько слов можно было даже прочитать справа налево: «Тисо… предатели… сознательные… свобода». И все эти слова пахли типографской краской. Так, сосредоточив взгляд на своих ладонях, мчался в машине Томаш. Голова словно омертвела от затрещин, и только в кончиках пальцев одной руки сохранилось чувство боли. А кроме этого он не ощущал ничего из того, что в такой полной мере опустошило его, освободив от всех прежних чувств, представлений и мыслей.
Въехали в Жилину. Промелькнула улица, по которой давно, целый час назад, он шел, понятия не имея о том, что на ней помещается полицейская казарма. Голова не думала, все в нем содрогалось от боли, он существовал теперь только как кусок живой плоти. Будто касался мира кончиками разбитых пальцев. В таком состоянии он все смотрел на свои пальцы, не думая ни о чем.
— Что там у вас? — спросил один из конвоиров.
— Отпечаток, — без мысли, без смысла ответил Томаш, рассчитывая — как в нормальной жизни — на юмор.
Один, другой, третий подошли, посмотрели его ладонь.
— И верно, отпечаток!
Засмеялись — им это было забавно. А Менкине все это казалось нелепицей, и он начал сомневаться в целости своего рассудка. Но тут один из агентов выложил на стол знакомые свертки с листовками, понюхал бумагу. Потер пальцем. Еще раз понюхал, словно розу. С удовольствием втянул в себя запах свежей типографской краски и выдохнул:
— Свеженькие.
За ним то же самое сделали остальные — понюхали, повторили:
— И правда, свежие совсем.
Менкина видел, как лицо первого агента светлеет.
— Он ехал из Жилины во Врутки… Стало быть, так: он действительно из Жилины… — Свежесть краски натолкнула его на мысль. Какую? Томаш вскоре узнал.
Он был звенышком в цепи, ячейкой в сети. Теперь следователи пошли от него не вперед, не стали больше допытываться, кому он должен был передать чемоданы, теперь хотели знать, от кого он их получил. Краска на листовках свежая. Если он ехал из Жилины, логически рассуждали агенты, значит, типография где-то поблизости. К ней-то и хотели они теперь прийти, от арестованного назад — к красной типографии. Он навел их на необычайно ценный след. Твердо уверенные в этом, они так и ухватились за него. Принюхивались к свежим листовкам. Где-то здесь должно это быть. И они, загоревшись, неутомимо обрабатывали Томаша.
Его посадили посередине. Трое уселись вокруг — верхом на стульях, повернутых спинками к нему. Сидели вокруг — пригнувшись, мясистые руки на спинках стульев, готовые кинуться на него. Наперебой бросали ему вопросы, говорили о чем-то таком, о чем он ни малейшего понятия не имел, но с упорством собак-ищеек всякий раз возвращались к типографии. Меньше чем в полуметре от себя видел Томаш их глаза, их руки. Двое носили толстые золотые кольца. С кольцами — больнее бьют. Судя по всему, Томаш еще был человек, как ни мало правдоподобия заключалось в этом, и эти трое еще были люди в том же неправдоподобном мире насилия, в котором он очутился. Больше всего он глядел в глаза агента, сидящего напротив него, тот первым учуял типографию. Вообще же то, что они могли смотреть Томашу в глаза и гипнотизировать его взглядом, зная, что будут его бить, было чудовищным абсурдом, который не укладывался у него в голове. Ничего в нем не было. Его сознание было — дыра, просто пустая дыра, как пустое пушечное жерло. Клубни их глаз высасывали его.
«Ничего нету во мне. Не ждите ничего», — повторял он про себя. А они до одури спрашивали все об одном и том же. И он, тоже до одури, повторял все те же ответы. Они испробовали на нем всевозможные методы допроса. Он ничего не сказал — нечего было. Знал одно только имя, но глубоко прятал его в себе. Впрочем, они даже не очень приставали к нему с вопросами о человеке в экспрессе, их ослепляло убеждение, что где-то поблизости скрыта красная типография. В конце концов, как упорствующего и не поддающегося ни уговорам, ни доводам рассудка, его отдали самому сильному из троих, этот, без сомнения, больше применял на допросах свою силищу, достойную подручного мясника.
Читать дальше
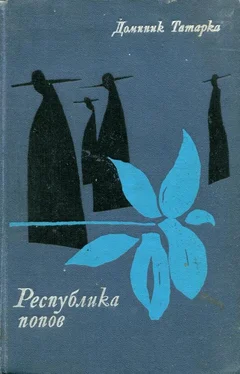





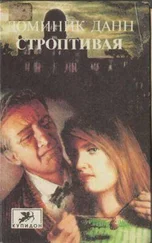


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


