Агент, не отводя глаз от Менкины, ощупал аккуратно запакованные свертки; медленно развернул один из них, вытащил из-под обертки бумажный лист. Он производил все эти действия как бы между прочим, так как отлично знал, что именно было в свертках, и даже не ожидал сразу услышать правду.
— Я уже говорил вам, пан инспектор, со мной ехал какой-то швейцарский охотник, — излагал Менкина неправдоподобное; он и знал, что рассказывает неправдоподобное, сказку, что ни одному его слову не верят, и все же продолжал говорить. — У этого охотника, как я уже сказал, был на куртке швейцарский значок. Мы разговорились. Я ехал только до Вруток, а у него было много багажа, понимаете, как бывает у таких путешественников… И в суматохе, когда мы выходили из поезда, он попросил меня поднести чемоданы…
Он обстоятельно рассказывал о невозможном и неправдоподобном.
— Я вас слушаю, пан Менкина, говорите, говорите, видите, я терпелив с вами, только не забудьте в конце концов сообщить, кому вы должны были передать чемоданчики, — вставил агент.
Он прикидывался, будто сочувствует Томашу, конечно, как сочувствуют пленнику, которого крепко держат в руках.
Менкина продолжал свой рассказ, но уже напрягая все силы. Он яростно старался сообразить, что, собственно, случилось. Кого они ловили? — беспрестанно спрашивал он себя. — Чемоданы или человека? Если судить по вопросам, заданным ему вначале, то за кого они его принимают: за Лычко или просто за человека, который должен был передать чемоданы? Лычко смеется одними глазами, ускользает… Ему приготовили западню. А он, как дикий зверь, учуял западню. За Лычко охотятся. Лычко, как загнанный зверь, ускользает, пускается на хитрости. Томаш мысленно повторил все, что говорил ему Лычко, но вряд ли он все понял. Лычко сказал, например, что Томаш хочет ускользнуть через дыру в голове… И вот, по-дружески, человечно, сам толкнул его в западню. Бросил в холодную воду: плыви! Лычко ускользает, ускользнул… Красный экспресс весь — движение. Томаш закрыл глаза, и в голове его тотчас все пришло в движение: Лычко ускользнул. Им не поймать его. Нельзя. Нельзя, чтоб поймали. У Лычко чутье, как у дикого зверя, он вывернется. А я не назову его имени, не предам, — решил Томаш. Он испытывал жалость к себе за то, что был слеп, вовремя не сообразил. Ему бы задать стрекача… Так мне и надо.
— Ну хватит, пан Менкина, вы нам достаточно наговорили, — перебил его агент. — А теперь скажите, наконец, кому вы должны были передать квитанцию камеры хранения.
— Кому? Никому… — Тут у него зародилась мысль, и он спросил: — Зачем вы за мной не следили? Все точно узнали бы! И кому бы я квитанцию отдал, и тех четверых, которым передал бы свертки — первый, второй, третий, четвертый. И захватили бы разом всех, как теперь меня.
— Молчать! Нечего учить нас! — вскипел агент. — Наглость какая!..
Но он сейчас же овладел собой. Он с удовлетворением видел против себя партнера, который отлично понимает и свое и его, агента, положение, и знает, что ничто хорошее, ничто человеческое его не ждет. Агент явно, по какой-то извращенности души, сочувствовал арестованному и рассчитывал на такое же сочувствие с его стороны, полагая, что Менкина — коммунист, то есть человек, сознательно идущий на риск.
— Мы-то знаем, с кем имеем честь, — уже спокойно сказал агент. — Нам о вас известно больше, чем вы думаете. Вот что я вам скажу. Хитрец вы, понятно, стреляный воробей! Хватит с вас? Ну, а теперь пошли.
Менкина был даже доволен, услышав, что Лычко хитрец и стреляный воробей: значит, не ошибся в нем. Лычко ускользнул! Лычко ходит на свободе. «А то нелепо тебе так пропадать», — впервые дружески обратился к нему Томаш в мыслях. «Ты молодец», — подумал он еще. Лычко знал, что он на положении дичи, за которой охотятся. Вот почему он так рассмеялся в ответ на Томашево замечание о том, что и дичь не менее охотников интересуется стрельбой.
Агент-охотник предложил безболезненный выстрел в сердце своей жертве, которую держал на мушке:
— Признайтесь лучше. Ведь мы-то с вами знаем, в чем дело. Зачем же наводить тень на плетень? В конце концов, оба мы мужчины, и люди к тому же.
Менкина улыбнулся, не мог не улыбнуться такому сочувствию.
— Ей-богу, — побожился он в ответ на мягкое увещевание, — ей-богу, я правду сказал. Ничего я не знаю. Попал я в это дело ни за что ни про что, ей-богу, только пронес эти чемоданы шагов десять. Вот и все. Я и представления не имел, что в них было.
— Это узнаете? — агент, как картой, шлепнул об стол листовкой, сдаваясь — или делая вид, что сдается, — перед человеческим упрямством. — А ведь могли бы одним махом сбросить эту канитель с плеч долой. Отпираетесь — дело ваше. Однако не воображайте, будто так-таки и не скажете нам всего до конца. О-го, еще с каким удовольствием скажете, как еще размякнете! Не бывало таких, чтоб язык себе откусили, ничего не выдали. Итак, узнаете?
Читать дальше
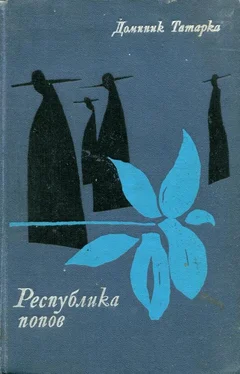





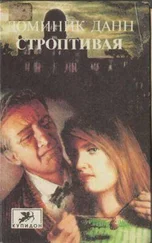


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


