Дарина прятала лицо в букет, легкая, тихая, ни словом не отозвалась. Только краснела от стыда так, что слезы выступали на глазах. Лашут до ужаса все понимал. Она краснеет за Томаша и за ту женщину, которая к нему льнет. Что-то в этом оскорбляло ее, будто касалось ее. Будто тела ее касались грехопадения Томаша.
— Томаш — мужчина, — повторил Лашут как бы ей в утешение. — А мужчины воображают, что они тогда мужчины, когда отбрасывают то, что им всего дороже…
— Нет, нет, это отвратительно, — возразила Дарина, и слезы брызнули у нее из глаз.
— Дарина, ну, Дарина, — постарался утешить ее Лашут, — все ведь мы такие: хотим одного, делаем другое. Поэтому-то не могу я никого осуждать. И вы, Дарина, не умеете осуждать. Тех, кто нас осуждает, всегда больше, чем тех, кто нас понимает и любит…
5
С такой важной новостью, как та, что он нес в своем сердце, Лашут не задумался отправиться в родительский дом Эдит. Солани жили в одноэтажном домике на Верхнем валу, на задах Гранд-отеля. Старая мебель, старенькие родители, выброшенные за борт жизни, произвели на него тяжелое впечатление. Обычно Лашут встречался с Эдит в скверике перед больницей, где она нашла место сиделки, когда ее выгнали с медицинского факультета. Отец Эдит был исключением среди евреев, в руках которых находилось три четверти всей торговли в городе. Он принадлежал к немногочисленным евреям-ремесленникам. На улице, ведшей мимо гимназии к кладбищу, он держал каменотесную мастерскую. Солани делал надгробия для христиан. За проволочной изгородью во дворике стояли изображения «сердца божия» — Иисусы с лампочкой в груди вместо сердца. Здесь можно было увидеть Иисусов-утешителей, Иисусов — мудрых мастеров, целующихся голубков для могил возлюбленных супругов или влюбленных, был Христос-младенец в рубашонке — для детей. Долгие годы высекал Имрих Солани христианские кресты для своих христианских сограждан, подчиняясь вкусу скорбящих родственников. И ничего не было в этом удивительного. Но после переворота изменился вкус, изменились взгляды, все изменилось. Стало людям бросаться в глаза то, чего раньше они не замечали. На синагоге появилась огромная надпись дегтем: «Требуем нюрнбергских законов!» В то же утро Солани нашел свою вывеску замазанной дегтем, а беломраморных Иисусов — безобразно заляпанными. И ему первому, вместе с евреями-юристами, запретили дальнейшую деятельность, потому как ведь это неслыханная наглость, когда еврей изготавливает предметы христианского культа. С тех пор каменных дел мастер Солани не переступал порога своей мастерской. И быстро седел от этого. Лашут не мог смотреть на него без жалости. Раньше Имрих Солани, весь осыпанный каменной пылью, как мукой, был ему приятен. Теперь, казалось, мастера покрыла плесень от того, что он торчал в тесной квартире, и Лашут жалел его яростно. Но надоело ему вечно кого-то жалеть…
Лашут пошел прямо в комнату Эдит. Она читала какой-то роман, лежа на диване. Он сел напротив нее, стараясь удержать на лице обычное выражение. Он научился скрывать под личиной будничности то волнение, которое всегда ощущал в ее присутствии. Чувство свое он скрывал, притворялся для самообороны, чтобы Эдит над ним не посмеялась. Безответно влюбленный, он покорно был предан ей, особенно теперь, когда ей грозила отправка в лагерь.
Отец Лашута держал небольшую типографию; он имел возможность, но не захотел дать сыну высшее образование, не желая, чтоб тот сделался еврейским интеллигентом, подобно какому-нибудь из родственников со стороны матери. Франё глубоко переживал это, особенно сравнивая себя с Эдит, бывшей своей одноклассницей. Успокоился он и даже обрел в отношениях с Эдит некоторую уверенность в себе только в последнее время, когда студенты-евреи, выброшенные из высших учебных заведений, спешно обучались различным ремеслам. Он даже отважился признаться ей в любви. Эдит не возражала против брака, хотя бы и с ним — она никого не любила.
И на сей раз вошел Лашут в дом скромно, хотя свидетельство о крещении в его нагрудном кармане грозило взорваться. Тихо сел он напротив Эдит, стал ждать. Эдит, удобно разлегшись на диване, не перестала читать — только взглядом поздоровалась: «Ага, ты тут». Лашут никогда не претендовал на внимательность с ее стороны. Тем более любовался он ею. Счастливый, даже удовлетворенный своим чувством — как это бывает с истинно любящими — он думал: «Эдит, Эдит, сама ты себя наказываешь. Медлишь заговорить со мной и новость узнаешь позднее. А мне и так хорошо с тобой».
Читать дальше
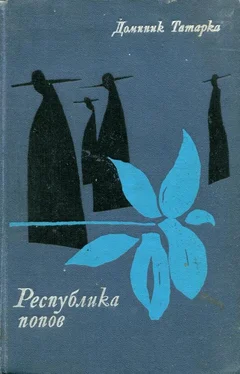





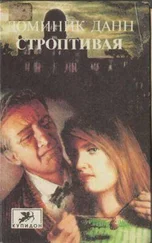


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


