Выкатили со двора. Лошадь от радости сама бежала резво, да священник все подстегивал ее. Лашут держал на коленях огромный букет, при всем своем горе даже иногда подносил его к носу и нюхал. Он опасался, как бы его странная прогулка каким-нибудь неожиданным вывертом не обернулась глупостью. И вместе с тем он был восхищен. Его могли ведь в каком-нибудь помещичьем доме принять за жениха, и с такой же долей вероятия он мог сойти за кучера и навсегда застрять в этом сословии… Ничего он не мог заранее сказать.
Они мчались по округу Турец, и Лашуту казалось, что они перенеслись в прошлое столетие.
— Скажите же мне наконец, кого я должен крестить, — заговорил священник, когда лошадь, видно, понимая пейзаж, замедлила свой бег; они ехали по очаровательной ложбине вдоль речки Быстрички.
Только теперь Лашут заметил, что всю дорогу, пока он рассказывал, священник внимательно слушал его.
А прекрасная земля вокруг была в нежной весенней зелени, куковала в дубраве кукушка, лошадь резво бежала полевой дорогой, приятно покачивался тарантас на мягких рессорах, Лашут держал на коленях огромный букет и думал шутливо, что священник, пожалуй, едет на свидание. Все это мешало ему рассказать как следует про себя. Из того, что он рассказал, невольно получалось только одно, что он несчастен и хотел бы вылечить свое бедное сердце на брачном ложе.
А тут в точности исполнилось самое невероятное из того, что он напридумывал за дорогу. Они действительно въехали во двор богатой усадьбы, где собрались экипажи, пожалуй, со всего помещичьего Турца. И действительно, пышущая жаром кухарка вынесла кучерам сливовицу и завтрак. Самому себе на зло Лашут поел и выпил вместе с ними. И, на смех подвыпившим кучерам, просидел в задумчивости все то время, пока в господском доме кто-то с кем-то обручался; он успел сто раз передумать собственную историю, а времени все оставалось много. От нечего делать заглянул на кухню, подольстился к кухарке, чтоб еще наполнила кувшин для кучеров. Осушил и этот кувшин с незнакомыми людьми и снова стал ждать священника. Наконец тот показался. Был он в очень веселом настроении, однако о Лашуте не забыл. Даже кивнул ему, проходя в цветущий сад об руку с дамой, с которой оживленно беседовал.
Наконец оба снова уселись в тарантас. И снова, с самого начала, заставил священник Лашута по порядку рассказать историю Эдит и свою собственную. Да, он любил ее очень, Эдит. А Эдит любила другого, его звали Лычко, это было еще при республике. Лычко пустился в политику, он был, знаете, коммунист; его мать работает на суконной фабрике. А Лычко разжег другой известный коммунист, замечательный человек, Иван Галек [15] Галек Иван (1872–1945) — сын известного чешского писателя Витезслава Галека, по профессии врач. Еще до образования Чехословацкой республики уехал в один из самых отсталых уголков Словакии (Кисуцы), где не только занимался врачебной практикой, но и вел большую просветительскую работу. В 30-е годы стал членом Коммунистической партии Чехословакии.
, они были знакомы. Но Галека, чеха, вытурили в протекторат. Ему бы памятник при жизни воздвигнуть, а его в протекторат. Да, что я хотел сказать? Вокруг этого Галека мы все и перезнакомились. Молодые были, студенты, хотели поднять революцию против нищеты, против спирта-денатурата. Лычко был из нас самый молодой, светлая голова и горячее сердце коммуниста. Все девушки любили его, любила Эдит, любила и еще одна, красавица, Вера Шольцова — дочь начальника гарнизона. А Лычко не нужна была ни одна — для него превыше всего был коммунизм и то, что скажет его учитель Галек. Потом он все-таки женился на красавице Вере — это уж когда ее отец, начальник гарнизона, принял участие в путче генерала Прхалы. Женился он на ней и канул куда-то, чтоб никто не мог его опознать. Все люди времен республики как-то так исчезли, чтоб их никто не мог опознать. Только Эдит да я остались от прежних времен, когда еврейская кровь никому не мешала. Я-то думал, у меня обыкновенная студенческая влюбленность, а она чем дальше, тем сильнее. Просто уже представить не могу, как можно жить без Эдит. Теперь Эдит ничего не имеет против того, чтоб выйти за меня замуж. Зато теперь я не могу — с тех пор, как в Словакии ввели нюрнбергские расовые законы. Это непреодолимое препятствие, поскольку Эдит — еврейка, а я еврей на одну четверть. Значит, Эдит для меня потеряна, потому что для нечистого арийца вступить в брак с еврейкой означает сделаться самому евреем. Даже Эдит не может упрекнуть меня за то, что я так думаю. Я очень ее люблю. Это так, пан священник. В наше время смелость еврея — безумство. Нет, даже и не безумство: закон просто вынуждает еврея быть трусом. И я — трус, пан священник, хотя и не стопроцентный еврей, а всего лишь двадцатипятипроцентный. Что же я могу, пан священник, — только остаться трусом, если вы не поможете…
Читать дальше
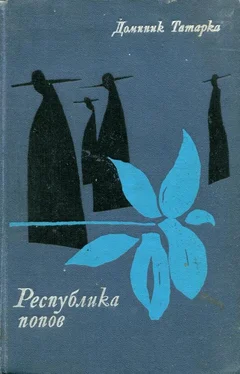





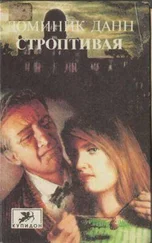


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


