— Пойдем посидим где-нибудь, раз уж мы вместе, — предложил американец.
Засели в трактире «У ворот», куда еще ходили люди по старой памяти. То был старинный городской трактир — два тяжелых стола вдоль закопченных стен, воздух пропитан спиртными парами, запахом пива и человечьим духом. Не успели Менкины сесть к столу, как мастер Мотулько, слабейший из двойни, был уже тут как тут.
— Винца? — обратился к сосредоточенным Менкинам трактирщик Клаповец, чья настоящая фамилия была Клаппгольц.
— Что же, пан Клаповец, налейте нам благодати, — попросил вместо них более скорый на язык Мотулько. — Освежимся благодатью, коли уж тут оба Менкины собрались! — подмигнул он им.
Дядя с племянником были что-то очень задумчивы. Ну ничего, вино языки развяжет! Первый литр опростали с таким серьезным видом, будто пили на поминках. А подали им токайское. Мотулько, уважая ученость Томаша, выразился по-ученому, что винцо поставляет подстанция.
— Еще благодати? — потчевал обрадованный трактирщик. — Вот и славно, благодать-то! — Трактирщик Клаповец трижды издал звук, похожий на звук погремушки: у него в верхней челюсти было два гнилых зуба. Он все старался подбить Мотулько на шутовство, чтоб развеселить угрюмых гостей.
— А что, пан мастер, знала бы святая Цецилия… — подбросил он приманку Мотулько.
— Скажу я вам, пан Клаповец, в монастыре-то другую благодать пивали, не вашей чета. Такой никогда не будет в ваших подвалах, хоть вы и добрый трактирщик, это уж точно. Да что там!.. Стоило мне спуститься с хоров святой Цецилии и пройти через неф — в ризнице ждала меня всякий раз благодать, пока преподобные патеры и прочие достопочтенные фратеры спали невинным сном. Да, знаете ли, я, как фратер, такие вина, что для святой мессы готовили, отведывал после полуночи — ой-люли! Но не в том сейчас суть, зачем долгие разговоры заводить. Сидит вот с нами ученый пан Менкина, учитель гимназии. И видите вы нас всех троих вместе, пан Клаповец, но знайте, нелегко нам было собраться, и значит, за этим что-то кроется.
— Сейчас вам скажу, сейчас, — американцу явно хотелось отдалить переговоры; трактирщик ждал, что решат гости. — Все теперь от Томаша зависит. Томаш, от тебя все зависит. — Трактирщик понял, что предстоит семейный совет, отошел за стойку. — Скажи-ка мне, Томаш, нравится тебе этот трактир?
Томаш колебался. Он подумал, что Мотулько впутал дядю в какие-то махинации с еврейским имуществом. Это было тогда обычным делом. Поэтому он нерешительно и очень скупо пробормотал:
— Хороший трактир.
— Хороший — кой черт хороший! Золотая жила, вот что он такое. Да ведь вовсе неважно, Янко, что думает ученый племянник о твоем замысле. Ты другое рассуди, Янко, — что будешь ты-то делать все это время. Ведь сдуреешь! Мохом обрастешь! Грибы по тебе пойдут, пока ты тут будешь ждать конца войны! Надо тебе подыскать занятие, должен ты что-то делать. Твой племянник прав, да, он прав, — Мотулько признавал правоту Томаша, хотя тот еще ничего не успел сказать. — Он прав, тебе много не надо, нам в наши годы немного надо. Лишь бы дело было! Клянусь богом, цыган гвозди кует, когда нужда придет, курица зернышки клюет, а петух — червяка, человек же на земле удовлетворения ищет! — так и сыпал красноречивый Мотулько, пока не прервал его американец.
— Нет, Мотулько, я еще с Томашем по душам об этом деле не говорил.
— Ты не возьмешь золотую жилу — другие возьмут. Таких много найдется, ой-ой!
— Я так думаю, Томаш, и ты, Мотулько, что, видно, трактир меня все равно не минует. Знаешь, ведь в Америке, в Чикаго, — я об этом не рассказывал вам, — Хороботов, русский эмигрант, тоже мне свой благоустроенный трактир уступал и пустяки за него просил. «На вот тебе ключи и владей, — говорит, — мне уж никакого интереса нет. На родину хочу. Ничего не надо — только на родину. Большая война надвигается, и я должен на родину подаваться». Как шальной твердит одно и прямо навязывает свое заведение. «Пантелей, — говорю ему, душа-человек был, — Пантелей, не дури, не бросай, что горбом сколотил!» А он свое — мол, добровольно в армию пойду, а только на родину доберусь. На все прочее ему плевать было. Пристал — бери и бери трактир вместе с клиентами, его земляками. «Пантелей, друг, да на что мне твое заведение? Была бы у меня жена — ну, тогда другое дело. А нет у меня жены, никого нет. Я, знаешь, тоже домой хочу». Да что я вам рассказываю, это дело сюда не касается. Но Пантелей, этот русский, Хороботов, как услышал, что я, значит, тоже домой собираюсь, — такое начал вытворять, что ахнешь: созвал всех земляков, пир им закатил, да все и пропил. «Лучше все пропить, пусть все черт заберет!» И вот опять трактир мне предлагают, золотая жила, говорите. Только ведь и теперь нет у меня жены, никого нет, потому как и Томаш от меня отступается. Право, Томаш, не хочешь ты принять своего дядю таким, какой он есть… Не знаешь ты, Томаш, как оно бывает. Не пережил ты этого еще. А я-то думал, Томаш, ты взрослый мужчина.
Читать дальше
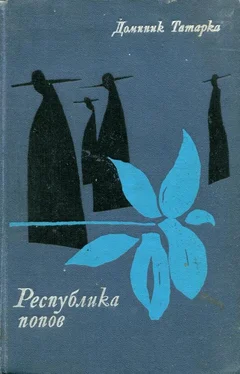





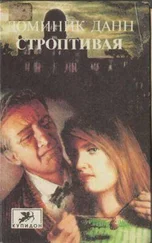


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


