4
Вонь стоит во дворе-колодце у Клаповца. Густой смрад кадильным дымом поднимается прямо к небесам.
Дочь привратника Сагульчика родила. Девочка у нее. Сагульчик регистрирует постояльцев на эту ночь. Явилась чисто вымытая, завитая туристка, неиспорченная женщина — Сагульчик даже глаз на нее не поднимает, стыдится, зато Менкина уперся в нее взглядом, как баран на новые ворота.
— А что, пан Минар придет нынче вечером в карты играть? — нарочно спрашивает Томаш.
— Очень много знать хотите, пан учитель, — обрывает его Сагульчик: он получил указание от хозяина и обращается к Томашу внешне почтительно.
Нынче все номера будут заняты, а как же — лето в разгаре. Даже с городских улиц видно, какое серебряное сияние лежит на полях. Никак не свечереет. Рассеянным светом залито все пространство под куполом неба, и кажется, что деревья и хлеба в полях сами излучают свет.
Травы цветут, цветут, лето в разгаре, скоро Иван Купала, — путается в мыслях у Томаша. Томаш бродит по полям — от этого он весь в дурмане. У берега Райчанки шуршат верхушки тополей, плещутся листики на длинных черенках. В шуршании хлебов уже слышно, как трутся друг о друга усики колосьев.
Томаш вышел на межу, спустился дальше, в ложбинку. Там, в той ложбине, тишина. Там он приляжет с краю пашни на склоне… Но нет — ушел оттуда: давно, очень давно были там с Дариной. Начали было разговор, да разговор тот оборвали.
Томаш делает большой круг, возвращаясь. Посреди серебристых полей только хвойный лес на Бороке черен, держит в себе темноту. К нему и направился Томаш. И мнится ему, что эти хранящие тайну просторы, замкнутые зачарованным небосводом, что это его, Томаша, внешние грани. А посреди пространства бродит, кружит нутро его, просыпаясь оттого, что бродит, кружит, сталкивается с вещами, с людьми, с их мыслями, с отношениями.
Томаш чувством, мыслью, всем своим телом ищет, как маленькая планета, ищет свое место в этом мире, свою борозду и свое движение. Он неистребим и будет двигаться так дальше, днем и ночью, пока будут слышать люди, что вот идет он, человек по имени Томаш Менкина. Так шел он с матерью, с дядей, думал, что они неотделимы друг от друга, как созвездие, а теперь идет с Дариной. Дарина освещает его своим дивным светом. Как прекрасно, что человек человека может так освещать.
Он, Томаш, озаренный светом Дарины, такой человек: он легко находит взаимопонимание — физическое — с женщиной, с большинством женщин; собственно, еще не встречалось такой, с которой он не нашел бы этого взаимопонимания. Просто есть у него такая способность, что все его чувства вступают в интимный диалог с женщиной. С Дариной, строго говоря, они так понимали друг друга с первой же встречи. Это чувство, эта способность физически понимать женщину — искренняя, горячая, человечная. Взглядом, душою, всеми чувствами он говорит: Дарина, ты, твоя блузка, грудь, вся ты наполняешь радостью меня, трогаешь меня. А Дарина, как всякая женщина, чувствует, знает это. Дарина поворачивается к любви, как подсолнух к солнцу. Но у Дарины есть характер. Он прикрывает ее, как холеная кожа, как улитку раковина; однако и нутро у нее не мягкое, не бесформенное, и Менкина чуть ли не взглядом наталкивается на этот устоявшийся нравственный облик Дарины. Она согласится раздеться только на высоконравственных условиях, которые сама себе ставит. И Томаш, мысленно сравнивая себя с Дариной, понял, что сам-то он совсем другой — мягкий человек, настоящий Менкина. Он еще не обрел такого устоявшегося морального и культурного облика, как Дарина.
Теперь Менкина Дарининым отточенным нравственным чувством, как щупальцами, ощупывает, к примеру, дядю, его заведение, минаровских дружков, просаживающих в карты чужие деньги. Один беглый взгляд Дарины на этот мирок — и она вздрогнула от отвращения. А он, Томаш, валяется в этой грязи, дышит ядовитыми испарениями и потом впадает в бешенство, все рвет в клочья — зубами, ногтями, взбесившимся мозгом. Был бы он как Дарина — пришел, заглянул бы к дяде, поздоровался и ушел. Хватит! Мог, как Дарина, передернуться от отвращения и зажить по-иному. Разумом Томаш давно отверг дядин мирок, но чувством, дарининым чувством, только теперь заслонился от него.
Полночь, наверно, давно минула. Томаш стоит еще посреди ночи. Во все стороны озирается с Борока. Дрозды то ли еще не заснули, то ли подают голос во сне — никак не погаснет день в их представлении. Невдалеке высится здание больницы. Год назад в ней умирала Паулинка Гусаричка. Светилось в ночи ее окно. Распаленная горячкой, горела она — и сгорела. Не за что было ей ухватиться в смертельной схватке… Но он об этом не знал. А если бы знал?.. А сейчас? Знает ли он, что вершится вот в эту минуту? Живешь, как в мешке. О случившемся узнаешь лишь потом. Нет, и дрозды никак не заснут: тревожат их сны. Полночь давно прошла, а они еще подают голос.
Читать дальше
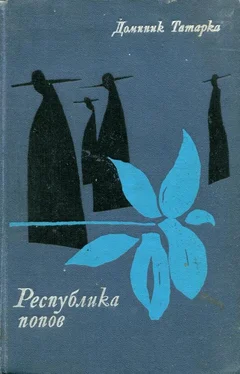





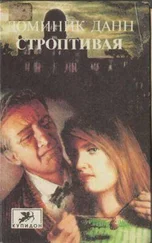


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


