А Павол Лычко получил тогда предупреждение: сейчас же переменить климат. И сказал он жене своей Вере:
— Придется нам совершить прогулку, девушка. — Предупреждение касалось и Веры, которая была связной: по заданию мужа она ходила в протекторат. — И жить тебе там по крайней мере до тех пор, пока меня не достанут.
Взяли они рюкзаки — стояли наготове для такого случая в шкафу — и айда каждый в свою сторону. Еще в тот же день ждало их счастье, даруемое только верным возлюбленным. Раз уж пришлось отправиться на прогулку, одна и та же мысль явилась обоим: жарко миловались они когда-то в сенном сарае лесничества в Кунераде — туда и пойдут на «прогулку»… И встретились там неожиданно для себя, и любили друг друга.
Потом Лычко пошел дальше, а Вера передала свекрови в Жилину: мама моя, нет у меня самого нужного. Мать Лычкова поняла, что случилось и в чем нуждается невестка: бумаги нужны ей, место работы и во что переодеться. Устроила все Лычкова, как только сумела, и поспешила к невестке. Нашла ее загорающей на солнцепеке под скалой известняка. Присела к ней и заговорила не сразу — пусть, мол, еще немножко понежится без забот.
— Что же ты будешь теперь делать, доченька, когда мужа твоего подняли гончие псы?
— Что делать буду, мама? Павол велел мне где-нибудь тут скрыться, оставаться в туристских местах, пока не схватят его эти бешеные собаки.
— Эх, доченька, и ты станешь ждать, когда его на дыбу вздернут?
— Ну что вы!
— То-то же. А Павола не скоро схватят. Нельзя, чтоб схватили. И тебе, доченька, не пристало теперь на солнышке греться.
— А что делать-то? Плакать? — гордо возразила невестка.
— Ты все такая же шальная! Надо тебе так держаться, чтоб Павол остался на свободе.
Мать погладила невестку, а там, где рукой не решалась коснуться молодого тела, погладила взглядом. Орлица гордая — красивая была, тело крепко, осанка уверенная. Злость вскипела в душе у матери — зачем нельзя Паволу тешиться с молодой женой, травят беднягу… Вера без мужа, пожалуй, легко свихнется.
— Подумала я об этом, Вера, — сказала мать. — Вот бумаги.
Вера Лычкова, невестка ее, долго, пристально рассматривала документы покойной Паулинки Гусарички. Угадывала, что ее ждет.
Думала: жизнь ты свою с коммунистом связала, сама коммунистка — что ж, испытай, как живет трудящийся люд, искупи теперь каждое сумасбродство, какое когда-либо совершила. Работать связной, ходить в протекторат, прямо в драконью пасть гестапо, со смертью играть — вот это занятие было по ней! Напрягать нервы, чтоб потом отдаваться покойному отдыху, будто тебя бросает из жара под душ ледяной, — это вполне отвечало ее натуре, ее склонности к приключениям, унаследованной от отца. Теперь — служи, ухаживай за больной. Ох, до чего нелегко становиться Паулинкой Гусаричкой! И нужно ли это — трудиться, страдать, сносить унижения? Она — не смиренное божье создание и отнюдь не хочет им быть, как же нести ей судьбу Паулинки Гусарички? Если б хоть ее верная служба была полезной для партии! Она же не кающаяся, ей нечего терпеть кару за грехи или за происхождение свое. Все это выдумала для нее свекровь, злая ведьма. Наказать хочет. А за что? За то, что из офицерской семьи? Что мужчинам нравится? Многое, чуть ли не вся душа Веры восставала.
— Идти тебе в служанки, доченька, — решительно сказала мать Лычкова.
— Ах, мама, вот что вы мне приготовили!
— Какое там приготовила. Кто нам теперь готовит прожитье? Черные предатели! Да ты, жена коммуниста, сама, поди, знаешь, — говорила торжественным тоном мать Лычкова, не упуская из виду и своей задней мысли. — Ты, доченька, всем подошла ему в жены. Нельзя тебе быть легковесной. Надо, чтоб Павола жена узнала и трудную жизнь, поела бы корочку хлебную, не один мякиш.
— Ладно, мама, — гордо сказала невестка.
— Ты ведь, доченька, человек мужественный, — уже ласково говорила свекровь. — Вот и будет хорошо, узнаешь жизнь, ума наберешься, с пути не свернешь. Павол должен быть уверен — ты меня понимаешь и знаешь, права ведь я, — что может он на тебя положиться.
— Вы, мама, все думаете, что я легкомысленная барышня, — надменно заметила Вера.
— Этого, доченька, я не думаю, — успокоила ее свекровь. — Палько, сын мой, выбрал тебя, знал, за что. Ты смелая, гордая. И мне это тоже в тебе нравится. Да только ты рассуди вот что: настали тяжелые времена, и каждый день теперь для нас испытание. Коли есть во мне хоть малый недостаток — тем внимательнее слежу за собой. Отец твой так рассуждал: грудь в крестах — или голова в кустах. И ты ведешь себя так же: то ли выиграю — то ли проиграю. А такой женщине, как ты, можно выиграть или проиграть только уж все на свете. Вера, я, твоя мать, не хочу и не допущу, чтоб с тобой, боже сохрани, случилась беда. И ты сама должна быть осторожной. Проверь себя на мелочах. Еще о том подумай, что Палько брал тебя в жены не для такого времени. А нынче настало такое, когда только чистое золото от порчи устоять может. Подумала ли ты вот о чем: во мне, Вере, жене Палько — огонь. Это хорошо. Но муж твой, может, годами не сможет теперь приходить к тебе. А тебе-то — прости старухе — мужа захочется, мало ли что… Поддашься, себе удовольствие сделаешь… А дальше-то как тогда? Ждут нас впереди великие времена. А тебе каково будет? Любовь к мужу потеряешь, и тем себя накажешь. Не хотелось бы мне, чтоб ты даже такое наказание терпела. Подумай о Паулинке Гусаричке — жить ведь будешь под ее именем. Она была такая же, как я. Много перенесла и кабы не умерла — стала бы сильной женщиной. Не на легкое дело идешь, Вера, но ты держись, думай о будущем, — от чистого сердца уговаривала невестку мать Лычкова; помолчав, резко добавила: — А по туристским местам, по лесным гостиницам ты не ходи. Догадаются сразу гончие псы-то, что там могут скрываться жены наших товарищей. Ты переоденься поскромнее — принесла я тебе платье для горничной. Иди в Тураны на фару.
Читать дальше
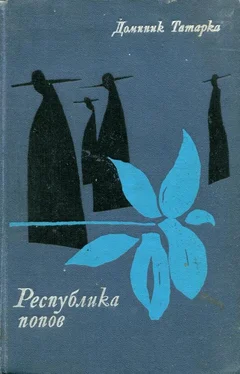





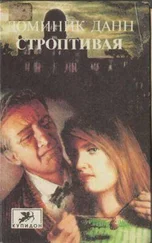


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


