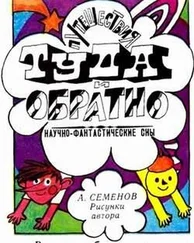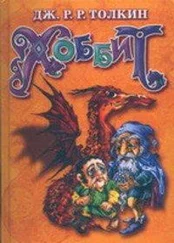– Священное дерево в нашей традиции, – сказал мне Марис, который помнил еще предыдущие названия всех улиц Вильнюса. – В двуязычной газете «Советская Литва» так и переводили: «Дуб наш парторг».
Уже завершая путешествие по трем столицам, я обнаружил – четвертую. Ею оказался Ужупис из республики Заречье на излучине Вильни, давшей имя расположенному неподалеку, метрах в трех, Вильнюсу.
Не в силах исправить этот неприглядный район, здешняя богема сменила его смысл и контекст. Ужупис объявил себя независимым и, обходясь без танков, добился более-менее официального признания. Отсюда можно послать открытку с собственным почтовым штемпелем, у них есть свой президент, свои послы и свой державный символ: ангел на колонне.
– Сколько человек живет в вашей стране? – спросил я у одного из тех, кто ее придумал.
– Около тысячи, но к ним надо прибавить все человечество. Гражданами Ужуписа считаются все, кто разделяют её конституцию, и я еще не встречал никого, кому бы она не нравилась.
Чтобы проверить сказанное, я отправился к невзрачной улочке, вдоль которой вытянулась конституционная стена со скрижалями на 28 языках. Выбрав русский, я внимательно изучил все 38 параграфов и три заповеди: «не побеждай, не защищайся, не сдавайся». С остальным спорить тоже не приходилось. «Каждый имеет право на любую национальность», гласила одна статья, «Каждый отвечает за свою свободу» – другая и «Каждый имеет право умереть, но не обязан», подытоживала третья. Мне больше всего понравился 13-й пункт: «Кошка не обязана любить своего хозяина, но в трудные минуты должна прийти ему на помощь».
Уезжал домой я гражданином Ужуписа, решив, что меня полностью устраивает конституция, которая не требует от своих котов и подданных ничего, кроме здравого смысла и его отсутствия.
Как ваша фамилия? – строго спросил таксист, нанятый доставлять приглашенных писателей в гостиницу.
– Генис.
– Вы уверены?
– Увы.
– Ну, ничего, какой есть. Будучи русским писателем, – начал он, не успев завести мотор, – вы не можете не понимать, что нормальному человеку нельзя жить в этой стране.
– Почему? – опешил я.
– Потому, – объявил он заветное, – что на их язык нельзя перевести «Бежин луг».
– Почему?
– В этом неразвитом языке нет придаточных предложений.
– Почему? – опять спросил я, чувствуя, что повторяюсь.
– Идиоты. Это научный факт. Все ведь знают, что умных – один на миллион, а латышей – полтора миллиона. Пары не выходит.
Я думал, что приехал домой, а попал на линию фронта. Каждый встречный вступал со мной в спор еще до того, как я открывал рот.
– Даже вы, наверное, знаете, – сказал мне, знакомясь, талантливый автор с бритым черепом, – какой самый влиятельный в России писатель.
– Пушкин? – напрягся я.
– Лимонов!
– Почему? – опять завел я свое.
– Патриот, обещает насильно ввести полигамию.
– Архаично, – одобрил я, чтобы не ссориться.
– Я так и думал, что вам понравится. Вы же мамонт, из диссидентов.
Лед был сломан, и я решил поделиться заветным:
– Моя геополитическая мечта состоит в том, чтобы Россия присоединилась к НАТО.
– И моя. Чтобы НАТО – к России.
– Почему? – не нашел я другого слова.
– Потому, – отрезал он, уходя, – что мы вам – не Европа.
– Это вы – не Европа, – закричал я ему в спину, – а мы с Пушкиным – еще как. Он за нее даже умер.
Наш город упоминается в хрониках крестоносцев хрен знает когда. Только поэтому ему удалось отбиться от чести называться Гагаринск. Прежнее начальство всегда отличалось лояльностью, особенно когда дело доходило до словесности.
Так, главой всех журналистов Латвии, как я узнал на своем первом опыте, был Петер Еранс, который не только ничего не писал, но и говорил исключительно о сельском хозяйстве. Лысый, с пухлыми губами, он походил на Муссолини, подчиненные тем не менее звали его гауляйтером. Немецкий в Риге знали лучше, ибо по-итальянски говорили только старые врачи, учившиеся в Болонье, потому что в довоенной – свободной – Латвии евреев не брали в медицинский.
– Мы, – говорил Еранс в сезон, – народ крестьян. И красных стрелков, – спохватывался.
Следя за посевной, Еранс посылал в поля всех, кого встречал. Поэтому наши газеты страдали аграрным уклоном и оставались непрочитанными, если рижские хоккеисты, вооруженные Тихоновым и Балдерисом, не побеждали ЦСКА.
По другую сторону политического спектра был Илья Рипс с физфака нашего университета. Он был на два курса старше, поэтому я о нем услышал только тогда, когда, защищая Пражскую весну, Рипс облил себя бензином у памятника Свободы. Сперва его погасили курсанты, у которых Рипса отбили милиционеры, чтобы отдать в КГБ, отправивший его в сумасшедший дом на Аптекарской. В следующий раз я с ним встретился в книге Сола Беллоу, который познакомился с Рипсом в Израиле.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу