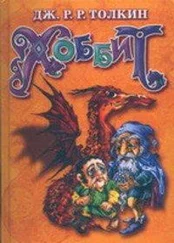Геннадий Мельников
Туда и обратно
Прораб грел руки над конвектором, когда я вошел в вагончик.
— Вот что, Стриженов, — сказал он, подымая на меня глаза с воспаленными веками, — бери Валентина (это водитель его «Волги») и гони в Спартановку, к Волынцеву. Пусть даст бригаду изолировщиков, а то не успеем закрыть теплотрассу… Да я лучше напишу.
Он сел за стол и, выдернув из «еженедельника» листок, быстро, будто рисуя зубья пилы, начертал что-то скрипучим фломастером.
— На, — вручил он мне депешу. — Только мигом, туда и обратно! Чертова техника…
Это он уже не мне, а телефону, который молчит со вчерашнего вечера.
Я выхожу из вагончика в загороженный щитами двор будущей шестнадцатиэтажки и направляюсь к белой «Волге», едва различимой сквозь густо падающие хлопья снега. Выезжаем на Вторую продольную магистраль. Снег повалил еще сильнее. Встречные машины едут с включенными подфарниками. Возле «Стимула» стоят люди со связками макулатуры, на плечах у них, как эполеты, снег. В субботу и мне нужно будет досдать оставшиеся десять килограммов на «Королеву Марго», хотя, наверное, опять будем работать, как всегда в конце квартала. Надоело. А может быть на этот раз управимся, если Волынов пришлет взвод? Около керосиновой лавки тьма народу. Валентин резко крутит баранку влево, и «полуторка» проскакивает по краю воронки, незамеченной в темноте. Я чуть не выломил деревянную дверцу кабины. «Там проход», — указываю я Виктору на флажки. Машина прыгает по углублениям, оставшимся после вынутых противотанковых мин. «Скоро стемнеет», — замечает водитель, поправляя на лбу защитные очки. Его кожаная куртка скрипит, когда он ко мне поворачивается. Я борюсь со сном, опасаясь просмотреть нужный нам переулок. Дождь усиливается. Вокруг газовых фонарей колеблются радужные кольца. Брусчатка мостовой блестит, будто отлита из металла. Цоканье копыт раздается с монотонной последовательностью. Пахнет мокрой овчиной, дегтем, потными лошадьми. Сутулая фигура седока маячит впереди, заслоняя редкие звезды. «Дальше не проедем», — хрипит он, оборачиваясь ко мне заросшим лицом. Я знаю это и, не говоря ни слова, сажусь на коня, чтобы плестись по грязи навстречу рассвету. Туман, как мгла великая, клубится, стекая по травам. А я иду к роще, до которой еще версты три, и ноги мои по колено мокры от росы. Великий князь сказал: «Лети, Ванька-стриж!», и я лечу, сшибая ромашки, подминая травы. Конечный поцелуй, порушенные мосты остались далеко, а там, где еще нынче ночью стояла тихость великая и, приложив ухо к земле, можно было услышать женский плач, там сейчас туча всадников на черных конях и в темных доспехах из буйволиной кожи сломила полк левой руки и теснит его к быстрой речке, стремясь захватить переправы. Вот и Зеленая дубрава, засадный полк, нетерпение воинов. Я, задыхаясь от бега, приближаюсь к князю, ловлю стремя. «Час прииде!» — шепчу я ему пересохшим горлом. И сразу в ответ: «Дерзайте, други!» — кричит князь Волынский, срываясь с места и тотчас забыв про меня. Я бегу обратно, наискосок — так ближе. Полем, полем, где еще не засохли ромашки и прыгают из-под копыт юркие птенцы. «Быстрее, быстрее!» — кричу я, и седок хлещет лошадей по мокрым спинам. «Да, здесь», — отвечаю я Виктору, и он точно едет по центру узкого прохода. По рации открытым текстом передают: «Внимание, глаза и уши, глаза и уши!», и я мысленно желаю удачи тому парню, который ползет сейчас в темноте через нейтральную полосу. Хорошо, что во взводе автоматчиков двое с противотанковыми ружьями: они выдолбают тех, которые засели через дорогу в бывшем клубе, заложив оконные проемы кирпичом. «Волга» пробуксовывает по накатанному снегу на подъеме от тракторного завода. Валентин облегченно вздыхает, когда мы сворачиваем нашей «резиденции». Вхожу в натопленный вагон.
— Через час будут изолировщики, — докладываю я прорабу.
— Хорошо, — говорит он, не отрываясь от кипы нарядов.
Я свободен и могу идти в свою бригаду. В дверях сталкиваюсь с Питерцевой, которая перед декретом на легкой работе. В руках у нее электрический чайник. Я, уступив дорогу, жду пока она пройдет. А она не торопится, смотрит своими глазищами мне под ноги и глаголет:
— И где это ты, Стриженов, подцепил такую прелесть?
Я смотрю вниз, куда и Питерцева — на залепленные снегом сапоги — и вижу, что на левом, в замке, который у меня постоянно сам расстегивается, торчит белая ромашка.