Три дня и три ночи Федр смотрит в стену спальни, мысли его не движутся ни вперед, ни назад, замерев лишь во мгновении сейчас. Жена спрашивает, не заболел ли он, и он не отвечает. Жена злится, а Федр слушает, не реагируя. Осознает, что она говорит, но уже не способен ощутить никакой необходимости. Замедляются не только мысли, но и желания. Все медленнее и медленнее, будто набирают немыслимую массу. Так тяжело, так устал — но сон не приходит. Федр — будто гигант в миллионы миль ростом. Расширяется на всю вселенную без предела.
Он начинает сбрасывать все — то бремя, что нес на себе всю жизнь. Велит жене уйти с детьми, считать их в разводе. Уже не боится собственной мерзости и стыда, когда его моча — не нарочно, но закономерно — вытекает на пол комнаты. Страх боли, мученической боли преодолен, когда сигареты догорают — не нарочно, но закономерно — до самых пальцев, пока волдыри их же ожогов не лопаются и не гасят их. Жена видит его искалеченные руки, мочу на полу — и вызывает «скорую».
Но помощь прийти не успевает — медленно, сперва незаметно сознание Федра целиком начинает распадаться… растворяться и таять. Постепенно он перестает задаваться вопросом, что дальше. Он знает, что дальше — и слезы текут, слезы по семье, по нему самому, по этому миру. Всплывает и остается строка старого христианского гимна: «Один ты перейдешь долину». Она влечет его все дальше. «Ты должен сделать это сам». Похоже, это западный гимн, ему место в Монтане [51] (You’ve Got To Walk) That Lonesome Valley — американская народная песня, госпел. Впервые записана в 1927 г. одним из первых кантри-музыкантов Дэвидом Миллером (1883–1953).
.
— Никто за тебя ее не перейдет, — говорит эта строка. Похоже, намекает, что за долиной что-то есть. — Ты должен сделать это сам.
И он пересекает эту долину одиночества, возникшую из мифоса, и словно просыпается — видит, что все его сознание, мифос, было сном, не чьим-нибудь, а его собственным, и теперь он сам должен держаться этого сна. Затем даже «он» исчезает, и лишь сон о нем остается — с ним самим внутри.
А Качество, aretê , за которое он так упорно сражался, шел на жертву, которое никогда не предавал, но за все это время так ни разу и не понял, теперь является ему — и его душа покойна.
Поток машин поредел и почти совсем исчез, а дорога так черна, что фара едва-едва прорубается своим лучом сквозь дождь, чтобы высветить ее. Убийственно. Что угодно может быть — вдруг выбоина, масляное пятно, труп животного… А если будешь ехать слишком медленно, убьют сзади. Даже не знаю, зачем мы до сих пор едем. Давно пора остановиться. Уже не знаю, что делаю. Наверное, искал вывеску мотеля, но не задумывался и пропускал. Если мы и дальше так будем, все закроются.
Сворачиваем на ближайшем выезде с трассы, надеясь, что дорога нас куда-нибудь выведет, и вскоре оказываемся на бугристом асфальте с выбоинами и рассыпанным гравием. Еду медленно. Фонари над головой швыряют в потоки дождя качкие дуги натриевого света. Выезжаем из света во тьму, на свет во тьму — снова и снова, нигде ни единой приветливой вывески. Знак слева объявляет «СТОП», но не говорит, куда сворачивать. Куда ни глянешь — везде тьма. По этим улицам можно ездить до бесконечности и ничего не найти — даже на трассу опять не наткнуться.
— Где мы? — орет Крис.
— Не знаю. — Мозг устал и работает медленно. По-моему, даже не могу придумать верный ответ… или что нам делать дальше.
Вот замечаю впереди белое сияние и яркую вывеску заправки в конце улицы.
Открыто. Останавливаемся и заходим. Служителю на вид столько же лет, сколько Крису, он странно смотрит на нас. Не знает он ни про какой мотель. Иду к телефонному справочнику, нахожу пару адресов и читаю ему, а он пытается объяснить, как туда добраться, но получается у него плохо. Звоню в мотель, что вроде бы поближе, заказываю номер и уточняю, как доехать.
Под таким дождем, в такой темноте, даже не сбиваясь с курса, чуть не промахиваемся. В мотеле уже погасили свет, и когда записываюсь в книгу постояльцев, не говорят ни слова.
Номер — остаток серости тридцатых годов, грязный, его ремонтировал человек, не знакомый с плотницким делом. Но комната сухая, есть батарея и постели, и больше ничего не нужно. Включаю батарею, садимся перед ней, вскоре дрожь и озноб стихают, сырость испаряется из костей.
Крис не поднимает головы, просто смотрит в решетку батареи. Немного погодя произносит:
— А когда мы поедем домой?
Провал.
— Когда доберемся до Сан-Франциско, — отвечаю я. — А что?
Читать дальше
![Роберт Пирсиг Дзэн и искусство ухода за мотоциклом [litres] обложка книги](/books/427160/robert-pirsig-dzen-i-iskusstvo-uhoda-za-motociklom-cover.webp)
![Роберт Баден-Пауэлл - Искусство скаута-разведчика[Scouting for boys ; Искусство Разведки для мальчиков]](/books/70572/robert-baden-pauell-iskusstvo-skauta-thumb.webp)

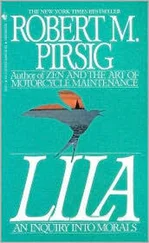

![Даниэлла Постель-Виней - Французское искусство домашнего уюта [litres]](/books/395987/daniella-postel-thumb.webp)
![Рольф Добелли - Искусство ясно мыслить [litres]](/books/397316/rolf-dobelli-iskusstvo-yasno-myslit-litres-thumb.webp)
![Рейчел Рой - Оденься для успеха [Искусство выглядеть стильно] [litres]](/books/407316/rejchel-roj-odensya-dlya-uspeha-iskusstvo-vyglyadet-thumb.webp)



