Входит в класс, звенит звонок, а он сидит и не говорит. Весь академический час хранит молчание. Кое-кто с ним заговаривает, пытается хоть как-то его расшевелить, но и они смолкают. Другие просто с ума сходят от внутренней паники. В конце часа класс буквально ломается, все бросаются к двери. Тогда Федр идет на следующее занятие, и там — то же самое. И на следующем, и потом. Затем Федр идет домой. И все больше недоумевает: что дальше?
Наступает День благодарения.
Его четыре часа сна сократились до двух, затем и вовсе пропали. Все кончено. Он не будет больше изучать риторику Аристотеля. Не станет ее преподавать. Все. Федр выходит на улицу, его разум вихрится.
Город подступает со всех сторон и в своей странной перспективе становится антитезой всему, во что Федр верит. Цитадель не Качества, но формы и субстанции. Субстанция в форме стальных листов и балок, бетонных опор и дорог, в форме кирпича, асфальта и автомобильных запчастей, старых радиоприемников, рельсов, в форме туш, которые раньше паслись в прерии. Форма и субстанция без качества. Вот душа этого места. Слепой громады, зловещей, нечеловеческой: она проступает при всполохах из домен на юге, что бьют по ночам вверх сквозь угольный дым, проваливается и сгущается в неоне вывесок «ПИВО», «ПИЦЦА», «ПРАЧЕЧНАЯ-АВТОМАТ», неведомых и бессмысленных знаков вдоль бессмысленных прямых улиц, что вечно выводят на другие прямые улицы.
Если бы все сводилось к кирпичу и бетону, чистым формам субстанции, сводилось явно и открыто, он бы как-то выжил. Но добивают маленькие жалкие попытки достичь Качества. Декоративный гипсовый камин в квартире — лепной, ждет огня, которого в нем не может быть никогда. Или изгородь перед их домом, за которой несколько квадратных футов травки. Пара шагов травы — после Монтаны. Забудь они про изгородь и траву, было бы приемлемо. А так лишь привлекает внимание к тому, что потеряли.
Глядя вдоль улиц, что ведут прочь от его квартиры, Федр никогда ничего не различает сквозь бетон, кирпич и неон, однако знает: под ними похоронены нелепые изломанные души, что вечно рядятся в манеры, которые убедят их, будто у них есть Качество, принимают вычурные позы, стильные и блистательные — такие продают им журналы грез и прочая пресса, а оплачивают торговцы субстанцией. Федр думает о них — в ночи они одни, уже без разрекламированных блистательных туфель, чулок и белья, пялятся в закопченные окна на абсурдные скорлупки, проступающие за стеклами, а позы меж тем расслабляются, просачивается истина — единственная, что есть на свете, взывает к небесам: господи, неужто здесь ничего, кроме мертвого неона, цемента и кирпича.
Осознание времени исчезает. Иногда мысли разгоняются — и гонят на скорости чуть ли не света. Но стоит напрячься, хоть как-то осознать, что вокруг, — и одна-единственная мысль ползет в голову целые минуты. А в мозгу слипается то, что он вычитал из «Федра».
* * *
Какой же есть способ писать хорошо или, напротив, нехорошо? Надо ли нам, Федр, расспросить об этом Лисия или кого другого, кто когда-либо писал или будет писать, — все равно, сочинит ли он что-нибудь об общественных делах или частных, в стихах ли, как поэт, или без размера, как любой из нас?
Что хорошо, Федр, и что не хорошо, — просить ли, чтобы нам это объясняли?
Вот что говорил он еще много месяцев назад, в Монтане, в аудитории — то, что упускали Платон и все до единого диалектики со времен Платона, ибо все стремились определить Благо в его интеллектуальном отношении к вещам. А теперь он видит, как далеко ушел. Он сам поступает так же скверно. Сначала стремился сохранить Качество не определенным, но в сражениях с диалектиками делал утверждения, а каждое утверждение — кирпич в стене определения, которой он сам огораживал Качество. Любая попытка вывести организованные соображения насчет неопределенного Качества сама себя подрывает. Качество подрывает сама организация разума. Это была бесплодная затея с самого начала.
На третий день Федр сворачивает за угол на перекрестке незнакомых улиц, и в глазах у него темнеет. Когда зрение возвращается, он понимает, что лежит на тротуаре, а люди обходят его, будто его здесь нет. Он устало поднимается и безжалостно подгоняет мысли, чтобы вспомнить дорогу домой. А мысли тормозят. Замедляются. Примерно тогда же они с Крисом пытались найти продавцов раскладушек для детей. Потом он уже не выходит из квартиры.
Неотрывно смотрит в стену, сидя по-турецки на ватном одеяле, брошенном на пол спальни без кроватей. Все мосты сожжены. Назад пути нет. А теперь нет пути и вперед.
Читать дальше
![Роберт Пирсиг Дзэн и искусство ухода за мотоциклом [litres] обложка книги](/books/427160/robert-pirsig-dzen-i-iskusstvo-uhoda-za-motociklom-cover.webp)
![Роберт Баден-Пауэлл - Искусство скаута-разведчика[Scouting for boys ; Искусство Разведки для мальчиков]](/books/70572/robert-baden-pauell-iskusstvo-skauta-thumb.webp)

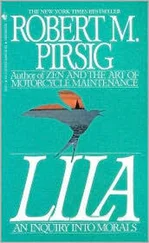

![Даниэлла Постель-Виней - Французское искусство домашнего уюта [litres]](/books/395987/daniella-postel-thumb.webp)
![Рольф Добелли - Искусство ясно мыслить [litres]](/books/397316/rolf-dobelli-iskusstvo-yasno-myslit-litres-thumb.webp)
![Рейчел Рой - Оденься для успеха [Искусство выглядеть стильно] [litres]](/books/407316/rejchel-roj-odensya-dlya-uspeha-iskusstvo-vyglyadet-thumb.webp)



