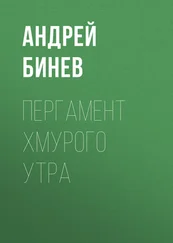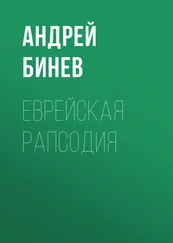– Он простыл, доктор…, – торопливо объясняла Маша, – Чихал вчера очень.
– Точно чихал! – зачем-то соврал Подкопаев.
– У него и голова болела, – продолжала Маша.
– И голова! Сам видел! – еще неуместнее встрял Подкопаев.
Доктор уже с нескрываемым подозрением посмотрела на всех троих, хотя Павел молчал, лишь выполняя ее требования при осмотре.
– У него шрамов много…и швов… Может быть, это воспалительный процесс? – сказала, наконец, доктор, – Я выпишу успокоительные, и пусть лежит дня два, три… А потом в свою поликлинику… Он не наш больной… Ведь так?
– Так, так…, – Маша согласно закивала.
Врач ушла, все еще с недоверием поглядывая на молчаливого больного. Маша тут же вытолкала из комнаты обескураженного Подкопаева и захлопнула у него перед носом дверь.
Ночь прошла тяжело, бессонно для обоих. Маша сидела в мамином кресле с ушками, а Павел лежал в постели и неотрывно смотрел в темный потолок. Они уже почти прощались, молча, отчаянно, окончательно. Утро пришло крадучись, холодно и сухо. Оно заползло в комнату через окошко бледным рассветом, медленно растеклось по углам и застыло там серой, неприветливой пустотой.
Маша устало облачалась в неглаженную, несвежую форму. Он наблюдал за ней с постели, почти не поворачивая головы, а только кося в ее сторону глазами.
– У тебя спала температура, – сухо сказала Маша, положив ему перед уходом теплую ладонь на лоб.
Она подошла к двери комнаты, обернулась и чуть слышно шепнула:
– Никуда не выходи, лежи тихо… Я буду к обеду…на часок. Всё устрою… Я уже знаю, как…
Подкопаев заглянул часам к девяти, открыл дверь и с веселым напряжением потряс в воздухе ополовиненной бутылкой водки.
– Ты как, Павел Иванович? Подкрепимся с утречка?
Павел отрицательно покачал головой и улыбнулся как можно приветливее.
– Ну, как хочешь, – надул губы Подкопаев, – А то тебе лекарства разные выписала врачиха, а какой от них толк! Вот это, понимаешь, толк! Лечение! Мы в войну почему не болели…, даже соплей не было?! А потому что ее, родненькую, стограммили… Она от всех болезней первое средство! От нервов тоже… Ну, будешь, земеля?
– Не буду, Владимир Арсеньевич! Точка! Отрезал! Мне спать хочется… Ты иди…, иди, брат…
Подкопаев осторожно притворил за собой дверь и тяжело вздохнул. Раз, на его взгляд, человек отказывается от такого чудного лекарства, значит, он серьезно болен, и, возможно, даже смертельно, неизлечимо. Жаль! Хороший был мужик, хоть и угрюмый очень.
Ну, вот! Считай, война еще одного забрала, проклятая! Эх-хе-хе!
Подкопаев, продолжая вздыхать, похромал на кухню и там в одиночестве допил бутылку, будто поминал чью-то душу.
Маша прибежала часам к трем, запыхавшаяся, потная, с распахнутым воротничком гимнастерки. Она была по-прежнему серьезна, сдержанна и деловита. Маша бросила на стол сверток, плотно упакованный в газетный лист и перетянутый бечевой.
– Вот, – сказала она, не глядя на Павла, – Твоя книжка…, выписка из приказа…
Павел встал с незастеленной постели, в которой пролежал все это время, и взял в руки пакет. Он, не спеша, развязал бечеву и развернул небольшую серую книжку. Павел долго рассматривал страничку за страничкой с синими печатями и аккуратными записями, сделанными профессиональной рукой, как в начала, так и в конце. Видно было, что писались они разными людьми, но всех их объединяли три обязательных правила – каллиграфия, краткость и бюрократическая ясность в словах. Принят на службу тогда-то, должность, приказ, число, переведен, опять принят, и опять номер приказа и чья-то подпись с датой, потом вновь приказ, вновь число, жирная печать и подпись. Последняя запись – уволен по причине «неполного служебного соответствия» в связи с приказом таким-то от такого-то апреля 1948 года. Печать, подпись.
В сердце воцарилась гулкая пустота, точно из него выкачали что-то очень важное. Оказывается, его полнота зависела от чего-то постороннего. Получалось, что сердце наполнялось заботой и долгом не изнутри, не из внутреннего убеждения в том, что нужно что-то делать или, напротив, ждать, ничего не предпринимая, а извне. Как только внешний толчок прерывается, обнаруживается совершеннейшая беспомощность, похожая на ощущение человека, у которого в пути украли его единственный чемодан со скромными личными вещами, и без него он, как будто бы сильная и даже самостоятельная личность, ничего уже не стоит.
Без хозяина наступало сиротство. Павел уже знал это холодное чувство – сразу после войны он жил в растерянности в Старом Толмачевском переулке, в татарской коммуналке, искал себе занятия и поражался внутренней пустоте, которую ничто не в состоянии было заполнить. Даже трибунал и осуждение в штрафроту не шли ни в какое сравнение с этим ощущением опустошенности. То был приговор и вёлся он со стороны, от него было не уйти, его нельзя было не заметить, не следовать ему, он диктовал почти смерть, но именно этим и заполнял сердце, пусть страхом, пусть, ощущением несправедливости, пусть обидой неотомщенности, недоверия, но все же – сердце не пустовало.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу