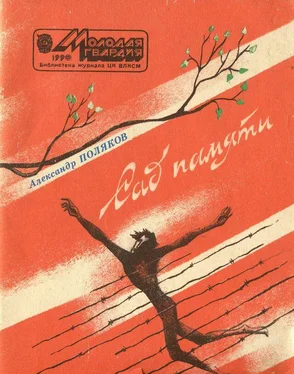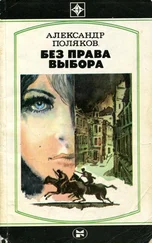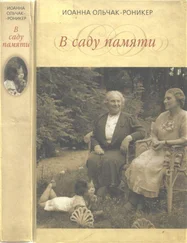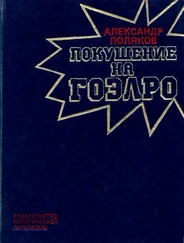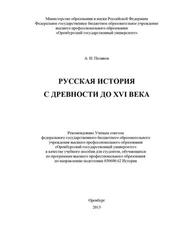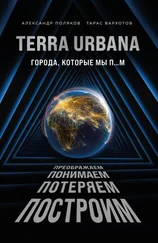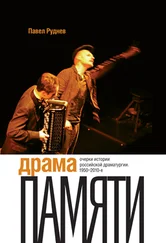Конечно же, о родовом тургеневском гнезде можно было бы написать светлый репортаж, и повод к тому есть — недавно мы отметили 170-летие со дня рождения писателя; образован Всесоюзный тургеневский комитет. Возможно, кто-то скажет: вот ведь, ничего хорошего не увидел. Увидел. Просто задача другая — привлечь внимание к тому, что происходит в усадьбе и вокруг нее, напомнить, что придание статуса Государственного мемориального и природного музея-заповедника усадьбе в Спасском-Лутовинове, постановления и решения — это не успокаивающий венец делу, а начало ему. Тем более, проблем хватает.
Начинаю с внешнего вида тургеневского села. Бросаются в глаза неприглядные постройки, непорядок в крестьянских дворах. Летом на старое кладбище, где в часовне покоится прах основателя усадьбы И. И. Лутовинова, а рядом похоронен брат И. С. Тургенева Сергей, местные жители сгоняют скот. Дело ли это?
Согласно генплану Спасское-Лутовиново скоро изрядно вырастет: сейчас 320 жителей, будет 1200. Построят 30–40 домов, общежитие, гараж, мастерские, зерноток, машинный и скотный дворы, котельную. Но стоит ли так перегружать мемориальное село хозяйственными объектами, которые исказят его облик? Разве нельзя что-то построить в Протасове, Бастыеве, Гущине, Катушищеве? К тому же деревни эти могут просто исчезнуть, а в них бывали и сам Тургенев, и Толстой; их названия встречаются в знакомых с детства книгах.
А знаменитый спасский народный хор, теперь изрядно поредевший. Найдем письмо Тургенева Г. Флоберу: «Вчера вечером я сидел на крыльце своей веранды… а передо мной около шестидесяти крестьянок, почти сплошь одетых в красное… плясали, точно сурки или медведицы, и пели пронзительными, резкими — но верными голосами. Это был небольшой праздник, который я устроил по их просьбе…»
Вот откуда все идет! Когда-то хор даже в Большом театре выступал. Песен в программе было не счесть. Более пятисот их записали столичные собиратели фольклора.
Жаль, что распадается хор. Это ведь тоже — тургеневское. Сберечь бы.
В памятной книжке Варвары Петровны Тургеневой, матери писателя, ее рукой записано: «1818 года 28 октября в понедельник родился сын Иван… в Орле, в своем доме в 12 часов утра».
Мальчик вырос, стал большим, очень большим. Он совершил свой писательский подвиг. Оставил великие книги, оставил Спасское-Лутовиново, чудом уцелевший дуб, помнящий его молодым. Что еще? Все. Остальное — за нами…
Дневник, которого не было
Писатель пришел к Цареградскому, когда тот торопился в аптеку.
— Хотел бы записать ваши воспоминания. Со мной стенографистка, — сказал он.
У Валентина Александровича умирала жена, но он собрал силы и вежливо, как только смог, отказался от беседы. Гости потоптались в пропахшей лекарствами передней и откланялись.
Спустя некоторое время Цареградский обнаружил в голубоватой книжке популярного литературного журнала документальную повесть А. Иванченко «Золото для БАМа», плотный шрифт которой перебивался абзацами: «Листки из тетради Валентина Александровича Цареградского». Позвонил мне.
Из тетради? Что это — дневник? Сгоряча я даже укорил старого геолога:
— Ах, Валентин Александрович, Валентин Александрович! Знал, умеете хранить тайны, но чтоб так… За годы знакомства ни словом, ни полсловом о дневнике.
Вот она, тысячу раз описанная сдержанность истинных северян. Поздравил, хоть и с запозданием: повесть не попадалась на глаза. А в ответ:
— Шутите… Сдержанность! Не было никакого дневника, понимаете, не бы-ло!..
Если чукчи удивлены, они кричат: «Какомэй!» Кажется, я тоже что-то крикнул: документальная повесть есть, а документа нет…
Прочитав листки из «своей тетради», Валентин Александрович слег. Давление по-рекордсменски брало все новые высоты.
Он лежал в постели и смотрел на стол, где в зимних сумерках голубел журнал. Когда уходила племянница Ирина и Цареградский считал себя освобожденным от жестокого кроватного плена, он шел на слабых ногах к столу, раскрывал повесть, и на полях появлялись сердитые карандашные пометки. Возможно, старый геолог давал волю раздражению, обиде, возможно, он придирался к пустякам. Возможно…
У него было не так уж много времени. По крайней мере, не столько, сколько было когда-то у старшекурсника Ленинградского университета Вали Цареградского, бредившего Севером. Высокий, стройно-сутуловатый старик жил больше воспоминаниями. Воспоминания виделись светлым домом, где жизнью правил однажды заведенный порядок. Теперь в нем словно хозяйничали нахрапистые пришельцы, без спросу двигали вещи, что-то, кажется, уже разбили и смеялись в тех комнатах, в которых смеяться было нельзя.
Читать дальше