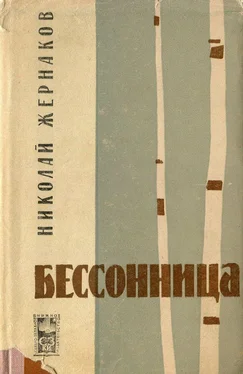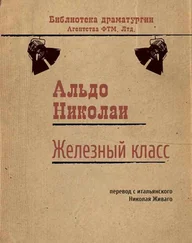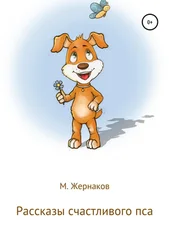— Верно?!
— Да ты о чем это?
Опять увел глаза в сторону.
— Боюсь и говорить.
Поймала его глаза — все поняла. Впервые, как потеряла Ефима, радостью задохнулась, но больше того испугалась.
— Не говори… Молчи, Степан…
Степан и вожжи уронил.
— И не надеяться, значит?
Ничего не ответила, соскочила с телеги, пошла к своей избе, а у самой голова кругом. Впервые подумала, что нравится ей Степан. Да неужели ему, парню, девок в деревне мало?
С того вечера заходила молодо, платья, которые годами не надевывала, из сундука перевесила в платяной шкаф. Морщинки ранние, что недавно появились у глаз, сами собой разгладились.
И странно, и тревожно стало. Жнет, бывало, а колосья будто шепчут: «Граня… Граня…»
Встретит Степана — и не хочет, да продаст себя: щеки жжет, глаза не знает куда деть.
Наконец Степан осмелился — пришел без зова. В мягких тенях августовского вечера, в запахах деревенской улицы, где ароматы отцветающих трав переплетались с пряными запахами соломы, в сумеречном уюте избы, где так давно не было мужчины, Степан показался ей подлинным и заслуженным счастьем. Аграфена не противилась ему. Уж очень тосковала по ласке.
А утром, едва Степан вышел, заявилась его мать. Еще месяца не прошло, как надела старая черный платок: на старшего сына получила похоронную.
Давно жили они в соседях, а зашла — не поздоровалась. Покрестилась в угол, где раньше иконы стояли на божнице, и стала у порога, строга и тверда видом. Не сказала, а сквозь бледные губы выцедила.
— Вот что, молода… Ты Степана моего не трожь. Не про тебя растила. Есть у него невеста, давно засватана, и слово родителям давано. Подолом трепать нехорошо… Еще неизвестно, может, вернется Ефим-то. Что тогда?
Камень на плечи взвалила и ушла. Опять Аграфена в думах: «Ой, ладно ли делаю? Какой в этой избе человек жил… Доска памятная. Что ж я при ней, при этой доске, кем себя-то теперь на людях оказываю?»
Весь день маялась Аграфена. Даже грудь запрокалывало, будто гвозди от той угловой доски до сердца дошли.
Свечерело — и снова Степан на крыльцо.
— Нет у меня невесты, окромя тебя… Неужто ослепла вовсе, не видишь: тебя одну люблю?!
Страшно даже стало Аграфене, когда перед ней плакал безрукий солдат. А выстояла. Ушел.
Долго не женился Степан. Только перед смертью матери уступил — взял ту, что еще перед войной была засватана.
Аграфена медленно поднялась с кровати, шла к простенку, думала: «Так-то вот, красавица. Вряд ли понять тебе когда-нибудь, как мужик по-настоящему-то жалеет…»
Она медленно стащила с головы платок, седеющие косы упали на плечи. Подняла глаза. С выгоревшей фотографии на нее смотрел совсем еще молоденький Ефим, в парадной форме с золотыми треугольниками на рукавах. Стоял он во весь рост, новенькая форма сидела на нем мешковато. Муж глядел ей в глаза так же сурово, как с того далекого времени она сама глядела все эти годы.
Только сейчас Аграфена по-другому поняла этот взгляд. Ей вдруг почудилось, будто Ефим осуждает ее за долгую и никому не нужную верность. Она упала грудью на кровать и каменно застыла в муке, какой, пожалуй, не знала еще за все эти двадцать с лишним лет.
Только вечер поднял ее. Реви — не реви, а надо идти на работу.
Уже поздно, но еще светло. Это тот час, когда на землю Придвинья надолго опускаются трепетные майские сумерки, когда на улицах и в безлистном еще перелеске под горой устраивается строгая тишина.
Старшему лейтенанту Егору Жукову предложили: или в глубокий тыл, или остаться при госпитале работать политруком.
Выйдет Жуков в пригоспитальный садик, сядет на опостылевшую скамеечку и хмуро глядит на тяжелые, мрачные тучи, что плывут над городком. Тупая боль в затылке и шум в ушах будто сливаются и с тучами, и с глухим шумом берез, почти начисто общипанных ветром. От этого становится еще тоскливее.
Жуков не слышал, когда на скамейку подсела лечащий врач Ивина. Еще совсем молоденькая, рыженькая и веснушчатая, она для всех в госпитале была Шурочкой. Шинель топорщилась на ней смешно и трогательно. Яркие губы маленького рта по-детски беспомощны. Глаза — васильки среди коричневых веснушек.
Жуков знает ее другой: три месяца видел рядом. Не подчиниться Шурочке нельзя. Он молча встает и идет с ней в палату.
И снова они ведут разговор, начатый не сегодня.
— Егор Иванович… Геройство небольшое — ехать на фронт с разбитой головой, — говорит она серьезно и строго.
Читать дальше