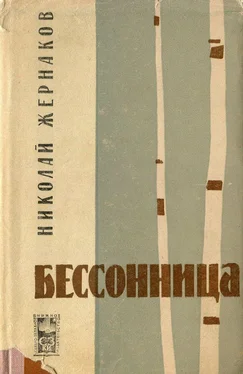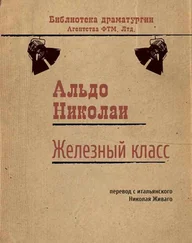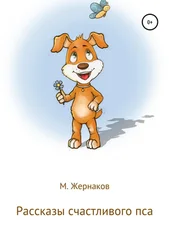Привязав лодку к кусту неподалеку от недавнего кострища, тыкая палкой впереди себя, он пробрел до обрубка. Оступился, зачерпнув за голенища коротких резиновых сапог. Ругаясь, взобрался на обрубок с ногами, оперся на палку, одиноко и неприютно застыл над водой.
— Вон какая уйма воды прибыла, — негромко говорил он сам с собой. — Если объезжать луга — куда к черту, утянет! Еще неизвестно, чиста ли Двина… Может, на ней ледоход. Тогда пластайся в веслах обратно. А через луг пробираться до Игумновой горы — мелей не оберешься, они так намают — ноги протянешь.
Он задумался надолго, глядя через разливы Шеньги туда, где словно из воды поднималось Кузоменье.
— Судьба… — скривил он губы. — Чего только не придумаешь, чтоб оправдаться! Ну хорошо… Допустим, приеду я в ее колхоз, что получиться? — Он осторожно переступил, посмотрел себе под ноги: вода вроде не прибывала больше. — А ничего не получится! Возьмут если — стану работать.
Заорала утка, вылетев из соседней ручьевины, как видно, напуганная бормотаньем.
— Тю-ю, дура горластая! Сидит, проклятая, до того, пока на хвост не наступят, — сказал человек с досадой и решительно ступил в воду. Так же палкой нащупывая дно, побрел к лодке. Отвязал ее, уселся в весла, плотнее натянул кепку, лицо его посуровело.
— Хватит, — прошептал он напряженно и неожиданно крикнул на весь разлив: — К черту-у-у!
Лодка вылетела из кустов на просторы. Упругая сила реки стремилась сбить с направления, повернуть лодку по течению. Но человек яростно греб против, вырывая у реки метр за метром.
Рассказы

На углу избы, что в центре Чаколы, на мраморной доске — золотые буквы. Мол, жил в этом доме колхозник — Герой Советского Союза, младший лейтенант Ефим Северов. Погиб под Москвой в декабре сорок первого года.
Аграфена до седых волос так и дожила вдовой. Она равнодушно смотрела теперь и на пожилых мужиков, и на молодых. Ей не раз думалось, что, не будь изба отмечена именем мужа, она, наверно, нашла бы себе кого. Когда еще была помоложе. Но случилось так, что сразу после получения похоронки сельсовет прибил на избу угловую доску с мужниной фамилией. И вот теперь, в день двадцатилетия Победы, деревянную доску сменили на мраморную.
День Победы для Аграфены стал самым тяжким днем в году. Обычно радио начинало говорить о празднике еще задолго до него. Аграфена выключала приемник, но его молчание было еще больнее. В этот день она норовила прийти из коровника попозже, словно опасалась, что, приди она по-обычному, радио включится само по себе.
Она знала, что в деревне многие недолюбливали ее за излишнюю — как они говорили — строгость к себе и другим. Ну, погиб муж. Так разве, мол, у нее у одной? Без малого двадцать пять лет прошло. Что же, всем молодым бабам так бы и вдовствовать?
Многие ее старые подруги потеряли мужей, но все они, так или иначе, законно или втихомолку, имели мужиков. И только одна Аграфена раз в год надевала черный платок, и этим днем она избрала День Победы. Поначалу ее отговаривали: дескать, праздник людям портишь. Да и не в мае, в декабре Ефим погиб. Потом привыкли, махнули рукой. Но, как видно, для некоторых, очень уж неразборчивых, Аграфена была укором. Такие-то и порочили ее вдовство: «Монахиней прикидывается! Кто-то поверит, будто она без мужика обходится».
Пусть говорят. Вряд ли кто из них сумел по-настоящему понять, по кому Аграфена раз в году надевает траур, как в ее душе сливаются и живут скорбь по мертвому, великая гордость за него с многолетней тоской по живому. Многого не понять соседям. А на угол не выйдешь, кричать на весь народ не будешь.
Через людей знала Аграфена, что председатель колхоза Степан Полуянов сказал как-то на народе: оставьте, мол, ее в покое, для нее, мол, этот день особенный. Но в лицо он ей ничего такого никогда не говаривал, и когда открывали доску, глаз на Аграфену не поднял. Раздумчиво и строго он рассказывал людям о своем фронтовом друге, о муже Аграфены. А она стояла тут же, выделяясь среди цветастых полушалков черным платком.
Рядом со Степаном щурилась на доску с золотыми буквами его жена, дородная веселая баба. Она и в эти минуты улыбалась чему-то. А Аграфена думала: «После того, что было, не может он другую так же жалеть…»
Народ разошелся. И вскоре Чакола заиграла песнями, подвыпившие мужики прошли мимо окон все еще молодой, красивой Аграфены Северовой, на которую заглядывались и парни-перестарки.
Читать дальше