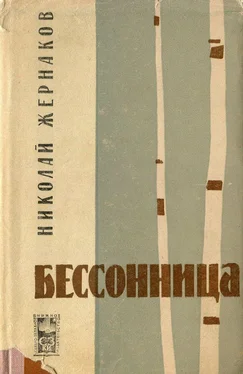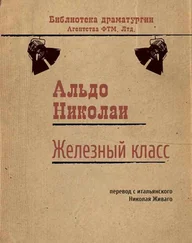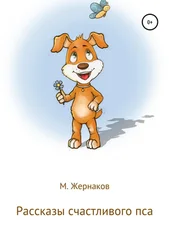— Э-э-й! Суши весла!
Это дядька Валей.
Степан перестал грести. Глянул: стихла волна, берег рядом. Сторожко посмотрел на кучку мужиков, что топтались у знакомой избы.
Федота среди них не было.
У соседей Подъячевых бабья суета. Везде горки тарелок, кринок, кастрюль. Промеж — ложки, вилки. Белое тесто словно силится выбраться из больших, красной глины, горшков.
Две бабы, засучив рукава, готовят студень. Ножи танцуют у них в руках, крошат намелко вязкое, исходящее паром мясо. Из чугуна несет горячим ароматом отвара.
В горнице за швейной машиной еще кто-то. Не поднимает головы. Черный в белую горошину платок вздрагивает на плечах.
— Здравствуйте-ко, бабоньки! — сказала Дора.
Малознакомые бабы сразу захлюпали носами. Та, что сидела в горенке, обернулась, бросила шитье, выбежала в кухню и прижалась к Доре, положив голову ей на грудь.
Марина!
— Полно, полно… Не вернешь, — проговорила Дора и невпопад подивилась: — Куда это столько готовите-то?
Бабы утерли слезы, наперебой стали хвалить старика Валея.
— Все с книжки снял, до копеечки принес…
— Чтоб, говорит, всей деревне хватило помянуть.
Посидели, поплакали с Мариной, и она, всхлипывая, снова ушла в горницу. Дора рада была помочь бабам, но у нее ничего не получалось, все валилось из рук. Потолкалась в кухне, наконец, увидела: только мешает всем.
— Ты приляг куда ни то с дороги. Мы тут и без тебя все справим. Поди-ко, поди, — советовали бабы.
Вышла из душной кухни на крыльцо. Глаза опять затуманили слезы: «Дядька-то Валей! Все до копеечки отдал». Она посмотрела через частокол в свой двор, перебрала глазами мужиков, которые проводили бездельный день у избы внезапно умершей Егоровны, — нет среди них Валея.
Присела на ступеньку, спрятала лицо в горячих ладонях, невольно прислушалась.
— Вот она жизнь, — говорил за частоколом старческий голос. — Седни на солнышко радуешься, а завтра, гляди, вперед ногами понесут.
Крепкий бас подтвердил:
— Такая уж всем под конец жизни резолюция.
— Не скажи, сват. Мово Ивана в двадцать годков на войне порешили. До конца-то ему еще было — и не видать…
— Чего горевать-то… Пожила Егоровна, — еще спокойный голос, — не другой же ей век зачинать.
А старик все скрипел свое:
— Сынка, стало быть, война взяла. Ну, мы с матерью в понятие взошли, потому — за отечество! А Егоровну ежели вспомнить? Ее где было счастье? Митрофан-то сгиб в самой поре да во цвету. Валей не в счет. Валей — только горя добавок.
— А как Митрофан-то погиб, дедушка? — спросил юный голос.
Ответ опередил кто-то насмешливым вопросом:
— Видно, пьяный в лодку сел?
— Помолчал бы, недоумок! — вскипел старик. — За друга, голубь, за друга своея погинул Митрофанушко, за живую тварь. Это и Федора Митрофановна не даст соврать. Она в те поры такусенькой соплюшкой бегала. А впереймы-те за карбасом я ходил с суседями.
— Вобче-то, — согласился бас, — у них вся семья душевная. Одно слово: без корысти жили.
— Не скажи, — вмешался третий, — не скажи, брат. Степана возьми! Тоже, по-твоему, святой человек? А как он над Маринкой Власовой измывался, то не в счет?
— О Марине ежели говорить, так еще надо подумать, кто над кем измывался… А так что: Степан — мужик как мужик. И председатель из него неплохой был одно время.
Разговор приутих, да Дора и не вслушивалась больше. Семилетней девчушкой брела она сейчас в своем прошлом.
Отца тогда из карбаса перенесли к дядьке Валею. Широколицый, узкоглазый дядька Валей раньше обычно все подшучивал над Доркой. Теперь же он молчком подхватил ее на руки и убежал из кухни. Дорка прижималась к нему и дрожала: страшно было слышать, как выла мать.
В пристройке, у верстака, в ароматных стружках сидела промерзшая до костей Дорка. Валей накинул на нее малицу, растопил плиту. Уселся рядом и сидел так, раскачиваясь, не сводя глаз с огня.
Жесткие смолевые волосы отсвечивали тусклым блеском, как перья на солнце у черного соседского петуха. Валей часто играл с Доркой в «петуха». Вскочит, бывало, на кряж около дома, похлопает себя по бокам руками и кукарекает на весь двор.
И вот сидит он серьезный, непонятно бормочет что-то себе под нос, а Дорке жутко. Она хотела вскочить и убежать к маме — не пустил. Плотней укутал малицей, необычно строго прикрикнул: «Лежи-ко, лежи маленько-то!»
А когда мать закричала в кухне протяжно: «Ой, да родной ты мой, Митрофанушко… Ой, да и на кого ты нас спокину-у-л!» — Валей зажмурился и пальцами уши заткнул.
Читать дальше