— Ну вот! — театрально развел руками Аппак. — Наконец истина… Думаю, чего он все время в трусах… Вот где истина. — Кругом прыгали и ударяли в тазы, как будто праздновали победу, а Аппак властным жестом заставил всех замолчать, чтобы спросить: — Как, братцы, смотреть будем? Или на слово поверим Яму?
Эти слова показались многим чересчур невкусными, неумными, потому почти все единодушно отказались:
— Зачем? Поверим…
А Ямин, уже сидя, обвязывался полотенцем, с неприязнью поглядывая на Аппака, и, должно быть, то, что он не до конца чувствовал вину, задело Аппака, и он сказал:
— А ты знаешь, Ям, ни один порядочный узбек не выдаст за тебя дочь?
— Что ж, найдется непорядочный, который поймет, что не моя это вина, — успокоившись, сказал Ямин.
— Ям, еще ничто не потеряно, — засмеялся Ирод. — Если до пятнадцати лет никто не сведет твое пятно, ты можешь сам себе… И никакой действительно вины!
Вокруг притихли, слушая Ямина, но слова Ирода снова развеселили всех.
— Ям, хочешь, я тебе сделаю! — закричал Аршак. — У меня рука точная, как бритва!
Душан медленно опустил ноги и вышел из ниши, думая что теперь, когда история с Ямином закончилась безобидной шуткой Аршака, все оставят в покое гаждиванца, но Аппак, который, видно, еще не сполна насладился своей выходкой, сказал зло, чтобы снова унизить Ямина:
— Постой, Ям, а может быть, сам ты не узбек?
И эти слова его так задели Душана, что он вмешался и сказал вместо Ямина как можно ироничнее:
— Ты почти прав, Пак, Ямин — бухарский таджик. Ты ведь сам говорил, что узбеки и таджики так похожи, что ничем их не различишь. Теперь ты понимаешь чем?
Не только эта реплика Душана, но само вмешательство его в спор было столь неожиданным, что Аппак долго молчал, криво усмехаясь и поглядывая на напряженно ожидающих мальчиков вокруг, затем вдруг резко ответил Душану:
— А вы кто сами — бухарцы? Вы — узбеки, говорящие по–таджикски, или таджики, притворяющиеся узбеками?! Вот что я хотел у тебя спросить. И сам ты кто? С узбеками ты узбек, с таджиками таджик, виляешь, хитришь…
Душан понимал, что хотя Аппак и старается, чтобы разговор их кончился дракой, но тон им взят неверный, да и сама тема спора не имела в себе столько страсти, не рождала злость, потому он ответил, пренебрежительно махнув рукой:
— Все это как–то пресно, Пак, все, что ты спрашиваешь…
— Нет, ты ответь, не виляй!
Лицо Душана сделалось еще более ироничным, даже холодно–надменным — таким он умеет быть, когда хочет показать, что зря снизошел до разговора с этим собеседником, слишком скучным и банальным.
— Моя национальность — маис… Ты, конечно, не знаешь, где этот народ живет и откуда его корни, ты, помнится, болел в те дни, когда мы изучали историю маисского народа, — решил подурачить его Душан и этим насладиться.
— Ерунда! Нет такого народа, — понял намерение Душана Аппак и растерялся, зная, что в таких спорах, когда надо кого–нибудь одурачить, способнее Душана никого нет.
— Есть такой народ! — упрямо повторил Душан, но ему не дали продолжить, закричали:
— Он тебя за нос водит, Пак! Маис — это наша джугара! В Африке называют маис, у нас — джугара…
— Вот и вся разница, — сказал Душан, — а злак один. Только я действительно хочу быть маисом, этой удивительной нацией, которая умеет достойно вести себя среди других. С плохими узбеками я узбек, с плохими таджиками таджик, с плохими армянами позвольте мне быть армянином… чтобы иметь язык, понимаешь, Пак, язык… глагол… чтобы умел я говорить: «Ты плохой узбек». А мне ответят: «Но ты ведь тоже армянин». А я скажу: «Раз я с вами, раз я ваш, и меня тоже называют плохим таджиком… это оттого, что и я взял часть плохого… а если вы отдадите, позволите, я возьму все плохое, чтобы у вас не осталось и потому…» — Душан неожиданно умолк, чувствуя, что, если он не возьмет себя в руки, не стиснет зубы в молчании, его разнесет и дальше и он скажет многое из того, что его волнует, и все от странного состояния, которое угнетало его уже несколько дней, оглушенности, из которой возможны были короткие выходы вот такими торопливыми, нервными монологами, голосом, в котором уже были слышны нотки рыдания.
Многие словно были удивлены и растеряны этим его монологом, столь обнаженным и откровенным, хотя некоторые и восприняли его речь иронически, подумали, что желает он оправдания, примирения, и только, кажется, одного Ирода пронзило, взволновало, и он сказал восхищенно уходящему торопливо Душану:
Читать дальше
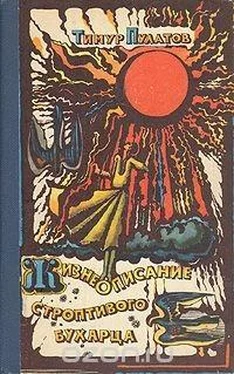





![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/427801/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras-thumb.webp)



