— Ну вот, наконец нам открылось истинное лицо бухарца!
А Душан уже не слышал, что было дальше, чем ответили в душевой на реплику Ирода, который — это явно почувствовалось — старался как–то сгладить трение между всеми и Душаном, не так резко отлучать его за непокорность: ведь все же искренен, не мелочится, говорит страстно и умно, а все это достоинства, которых у многих нет. Одевшись в прихожей, Душан прошел через боковую дверь в спальню, чтобы готовиться к завтрашней воскресной встрече с матерью. Может быть, впервые он решил поделиться с ней. Рассказать о том, как сложились тяжело и глупо его отношения с классом, и подумал, что лучше будет, если он обо всем ей напишет, чтобы она спокойно прочитала все дома и в следующий свой приезд ответила бы ему. Написать подробно, психологически и морально обосновать свой отказ делать по наущению целой группы людей, по их приглашению дурное… Это было бы его первым письмом, первой попыткой понять и выразить себя через письмо, прожить посредством слов в том состоянии, в котором не мог он прожить в реальной жизни, в быту. После мытья все соберутся в комнате отдыха, а в спальне он сможет сосредоточенно писать в одиночестве до самого вечера. Душан решил начать, но что–то в глубине сознания противилось его намерению. Что это? Может быть, поделившись с матерью, он выкажет свою слабость? Рассказывать о том, как отреклись от тебя, — слабость, не он ли всегда гордился и оберегал свое одиночество? Никогда не жаловался, когда ему трудно, что его не понимают, отталкивают. Почему теперь он должен раскрыться?
Недавно Душан всю ночь думал о матери. Вспомнил и об отце — теперь это уже ясно, хотя мать все еще не решается говорить о том, что отец оставил их. Душан стал понимать это с тех пор, как засуетилась мать, боже милостивый, ведь только покинутая, униженная этим женщина, так боящаяся одиночества, может столько тратить души на комиссию, на деятельность по устройству какой–то призрачной жизни вовне, на смену директора в интернате, где воспитывается ее сын.
А сам он разве не мельчает, не мелко ли то, о чем он хочет написать? Не полоса ли в роду, в семье, мельчание характеров, суета — кровь устала, разжижилась? И он решил не писать, чтобы самое первое его письмо не осталось таким беспомощным, подумал, что завтра, когда встретится с матерью, он все почувствует и, если сможет, постарается объяснить ей внятно, и, может быть, опять вернется то чудо, повторится тот миг, когда сын дышал с матерью одним вдохом, еще безымянным младенцем в утробе…
Это вошло у него в привычку — приходить в первый двор, к навесам, где встречались родители с детьми, позже всех. Мать, переговариваясь с другими женщинами, ждала его и всегда от волнения или от какого–то смущения вставала, увидев медленно приближающегося Душана. И каждый раз, пока он шел к ней, удивлялась перемене его облика, тому, какой он всегда разный — то покажется уже совсем взрослым, серьезным, под стать своим прожитым четырнадцати годам, то совсем еще слабым и незащищенным ребенком, который нуждается в утешении и участии, но из–за горделивости не высказывает это. Таким она увидела его в последний свой приезд, и по тому как мать говорила с ним, как смотрела, Душан понял что кажется он матери беззащитным, и оттого еще больше помрачнел и был неразговорчив.
Сегодня же по контрасту — он снова хотел казаться взрослым и спокойным, ироничным от ощущения внутренней силы, обаятельным и внимательным к матери, любящим ее нежно, чтобы мать, страдающая оттого, что все так нелепо сложилось в семье и в их роду, хоть на миг успокоилась, глядя на сына, решив, что вот бывают же дни, даже целые недели, когда Душану хорошо здесь.
«Утешу ее, и рассказа не получится, — подумал Душан, выходя из столовой после завтрака и направляясь к навесу, где должна была уже ждать его мать. — Зря все же… письма не получилось. Когда посмеялись, успокоились бы, сидя долго вместе, отдал бы ей письмо, прощаясь…»
И он решил все же рассказать, в несколько игривом, юмористическом тоне человека, принимающего самостоятельные решения, но все равно делящегося такими курьезными и забавными случаями с близкими, чтобы позабавить.
«Конечно, мать скажет: как можно одному и столько дней? Надо поладить. Хочешь, я скажу Пай–Хамбарову, чтобы он как–то деликатно, умно помирил вас? Я буду сопротивляться, скажу, что все сам улажу, но не сделаю, как хотят они. И так, слово за слово, мать — меня убеждая, я же противясь ей… и найдется решение… упрямым назовет», — подумал Душан и замедлил шаг, стал меланхолично–серьезным, глянул под навес, одним взглядом обозревая всю его длину, и странно, на всегдашнем месте матери не увидел. Зато мать Аршака, сидящая обычно с краю скамьи, устроилась поудобнее на месте матери Душана, уверенная, что та уже не придет.
Читать дальше
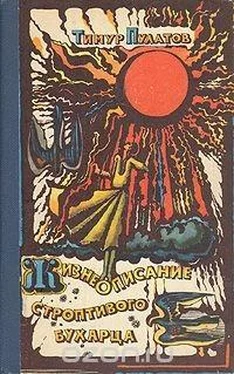





![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/427801/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras-thumb.webp)



